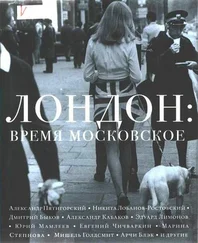Я уже сейчас вижу, что любая студия тебя возьмет. И ГИТИС, и Щукинское, и Щепкинское… Ты свободен в своем «я»… А откуда это? Только от пьесы, которую мы играем набело, экспромтом. Импровизация — это ключ к актерству. А Инна? Вы взгляните на эту красавицу. Это же в скором времени звезда телеэкрана!
Поляков сел в партере на первом ряду, перебирал струны гитары.
— Кто спорит, — сказал он. — Но…
— Боже мой, отчего мне так тяжело! — вздохнула Инна и заплакала.
— Прощайте! — прошептал Клоун и осторожно, точно боясь нарушить возникшую на сцене тишину, сошел в зал.
Поляков поднялся и пошел за ним в фойе. Там Клоун сказал:
— Пойдем быстрее. Не люблю я этих растянутых прощаний. Все равно сюда возврата нет.
Они быстро сбежали по широкой мраморной лестнице к нижнему фойе, оделись и вышли на улицу. Шел снег, и все вокруг было тихо и чисто.
— Здесь всех нас ждала судьба Алика, — продолжил Клоун. — Обреченность во всем какая-то.
— Это есть, — согласился после паузы Поляков, поднимая воротник пальто.
— Не есть, а прекрасная нам школа. Да я бросил пить лишь из-за Парийского. Он для меня наглядный пример. И вообще — точка. Я зацепился за другую жизнь. Я сам почувствовал пьесу. И могу плыть без них! — Клоун кивнул назад. — Ты знаешь, мне было некуда деться. Вот я и лип к Парийскому. У него приют нашел.
Поляков закурил, держа гитару под мышкой. Затем сказал:
— Разве я не понимаю? Мне теперь нужно зацепиться. Клоун нагнулся, скатал снежок и бросил его через дорогу в замерзшую, желтоватую от фонарей Москву-реку.
— Я не в том смысле. Я женщину себе нашел, — и добавил после паузы, — с ребенком и с квартирой. Это то, что нужно. Иначе у меня безвыходное положение. Теперь вот с понедельника иду на работу…
— Что подыскал? — спросил Поляков, выпуская клуб дыма.
— Что я мог подыскать? Как мышонок… Смотрел все справки под стеклом на улицах. А там одно и то же: токари, слесари, грузчики… Она, женщина моя, нашла. Приезжал в гости при мне бородатый друг ее… Ну, короче, берет к себе в НИИ, он там зав. сектором. Графики буду ему чертить до лета, а там в ГИТИС…
— На актерский?
— Ну его к черту! На режиссерский. Вот с тобой хотел поговорить. Ты уже разработку делаешь?
— Угу, — кивнул после некоторого молчания Поляков.
— А что читать будешь?
— Стихи — Пушкина, прозу — Чехова, басню — Крылова. Стандарт. М-да.
— А я разработку нашей пьесы дам. И Алик в ней погибнет, как в жизни.
— Зачем? Алик ведь, посуди, так и так бы долго не протянул. Законченный алкаш… Но дело не в этом. Дело в том, что приемные комиссии не любят всякого модернизма. Это ты должен запомнить. Они проверяют абитуриентов на классике.
Клоун пожал плечами, помолчал.
— А читать буду Мандельштама…
— Ты спятил? Он же враг народа, — вполне серьезно сказал Поляков.
— И для тебя враг?
— Для меня, разумеется, нет, но… Он же не издан… А что ты хочешь читать?
Они перешли на противоположную сторону, к Москве-реке. Было тихо, безветренно. Снег плавно ложился на спящую реку. Клоун поежился в своей куртке и начал:
Я не увижу знаменитой «Федры»,
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:
— Как эти покрывала мне постылы…
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали.
Расплавленный страданьем, крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог…
Я опоздал на празднество Расина!
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии —
Очнувшийся сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены;
Я в этой жизни жажду только мира:
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры…
Клоун читал нервно, то возвышая, то понижая голос. Последний стих был прочитан с такой безнадежной скорбью в голосе, что у Полякова выступили слезы на глазах.
— Здорово! — сказал Поляков и пробормотал: — «…покуда зрители-шакалы…»
— Вдруг мне это все открылось, — сказал Клоун. — Все эти современные пьесы с кукишами в карманах, все эти шакалы-зрители… А как пахнет апельсинной коркой! И вот я, кажется, нашел, что искал. Ты представляешь, у нее квартирка, такая уютная, чистая. Пахнет домом. Понимаешь. И она мне нравится. И дочка ее. Ах, что за прелесть женщина. Ни о чем не расспрашивает, все чувствует. Утром проснулся, боялся сначала глаза открывать, думал — у Парийского на полу, на грязном матрасе. Открываю глаза — чистота. Книжный шкафчик. Дочку Машу повел в детский сад. Шел с ней за ручку и улыбался всему свету и всем встречным-по-перечным. Так мне хорошо стало. Все, я женюсь. Надоело шляться. Были бы еще родители приличные. А то ведь как чужие. В чужом пиру — похмелье! Только, знаешь, стыд в себе приходится подавлять, давить его, этот стыд поганый.
Читать дальше