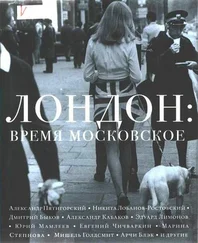— Да бросьте это, — миротворно сказал Парийский. — Я пару бутылок принес. Все же надо помянуть Алика.
Волович подошел к стоящему на сцене телевизору, долгим взглядом посмотрел на него, затем нагнулся, включил и, когда засветился экран, сел на него.
— Печально, — сказал он.
Все помолчали. Клоун вышел из-за кулисы, засмеялся и, прижимая ко рту ладонь, сказал:
— Все мы тут ради развлечений и собираемся. Чего уж там врать самим себе. В этом смысле я поддерживаю Воловича. Нам скучно, нас одолевает тоска, поэтому мы расходимся по студиям, по кино, по театрам. Нам скучно в одиночестве, нам тоскливо с самими собой. Вот в чем дело. И это характернейшая человеческая черта. Им было скучно, и они пришли на нашу пьесу, а мы им — гибель Алика. Нужно это или нет, я пока не знаю. Что я могу знать, если я себя не знаю. Я лишь знаю одно, что я точно хожу в студию потому, что мне просто пойти некуда, я как нищий прибился к ночлежке. Но все-таки нужно говорить правду, раз наша пьеса пишется набело!
Волович посмотрел на Клоуна долгим, испытующим взглядом, затем поднялся с телевизора и подошел к Инне:
— Ты тоже от скуки сюда ходишь?
— Пустяки, — махнула носовым платком Инна.
— По сути, Витек прав, — сказал Парийский. — Я уж определенно хожу сюда от нечего делать. Иногда даже затем, чтобы выпить с приятными людьми. Я сейчас принесу вина.
Парийский не спеша пошел в фойе. Волович пожал плечами.
— Конечно, все мы скучаем в жизни. А я, что, не такой? Тоже приходится скучать. Но я не даю скуке покорить меня. Я просто ухожу от нее, не говорю о ней. Мало ли что в жизни случается, так что же, мы должны обо всем говорить?..
Клоун резко прервал Воловича:
— Должны! Потому что опасно слишком выставлять на вид человеку, насколько он равен зверям, не показывая ему величия его. Потому что опасно также слишком выставлять ему на вид величие, не указывая на низость. Еще опаснее оставлять его в неведении относительно того и другого. Но очень выгодно выставлять ему на вид и то и другое. Пусть сам человек дает себе настоящую цену. Пусть он любит себя, потому что он способен к добру. Но пусть он и ненавидит себя за все низости, которые в нем есть…
— Да ладно вам митинговать! — крикнул Парийский, появляясь на сцене с портфелем.
Поляков провел расческой по своим светлым волосам, дунул на нее и, выставив вперед, как указку, сказал:
— Пришел бы человек со стороны и подивился нашему модернизму! Я представил себя в роли этого нового человека. Я пришел сюда в студию, смотрю и не понимаю: что здесь вы делаете? Просто все здесь дико с непривычки, — продолжал он, постепенно повышая голос и хмурясь. — Никто ничего не делает, черт знает что! Парийский должен был дать текст экспромтной пьесы, а не дал. Наверно, не написал. Алик должен был явиться на прогон… Мы же этот, для Азы, монтаж должны были прогнать… Но он погиб! Вы как режиссер, — указал расческой Поляков на Воловича, — сами не знаете, чего хотите, и ничего не делаете. Этюды, этюды, этюды… Да сколько можно! Давайте возьмем «Вишневый сад», проку больше будет. А так, я подозреваю, мы для вас всего-навсего материал, на который вы смотрите свысока и из которого вы хотите вылепить нечто такое, что впоследствии даст вам возможность ставить спектакли где-нибудь во МХАТе… Что мне, непонятно, что ли?!
Волович побледнел и застыл в луче прожектора. Парийский копался в портфеле, где под белым халатом лежали бутылки. Когда он извлек первую бутылку, то вместе с ней показалась из портфеля змейка стетоскопа, блеснув никелированными деталями.
— Это ты им сказала, что мне предлагают ставить профессиональный спектакль! — закричал Волович на Инну.
— Зачем мне говорить? — тихо проговорила Инна.
Парийский достал стакан, налил. Поляков буквально выхватил у него стакан и со злобой сказал:
— Больше моей ноги здесь не будет!
Выпив, он схватил гитару и спрыгнул со сцены в зал, но Клоун окликнул его:
— Погоди, пойдем вместе!
Парийский налил ему, Клоун взял, пригубил, а уж затем сказал:
— Пусть земля будет Алику пухом.
Клоун взглянул на Инну. Она, невысокая, красивая, стройная, показалась теперь ему очень далекой, и он понял, что, как следует не влюбившись в нее, разлюбил.
— Зря вы это, обижаться, — сказал Парийский, выпив. — На самих себя следует обижаться. Осуждать просто. А вы сами зачем здесь? Из одной любви к искусству, что ли? Это только я из любви… А вы? Ладно, Волович на нас практикуется. А что тут плохого? Ведь вы тоже практикуетесь, не так ли? Поляков, ты же на режиссерский летом будешь поступать. Чего тебе-то выступать! Сам натаскиваешься на этюдах будь здоров! Импровизируешь прекрасно. А пришел каким, вспомни? Угловатый, стеснительный, зажатый. Каждую фразу говорил с напряжением. Сам себя на сцене пугался, боялся в зрительный зал заглянуть. А теперь? Ты же овладел органикой. Живешь на сцене запросто, без напряжения, раскрепостился. А Клоун? Только благодаря нашей методике натаскался.
Читать дальше