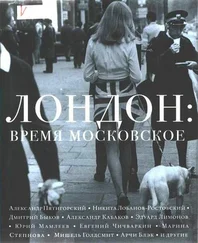Инна прочитала:
— «У нас тоже». — Прикоснулась к кобуре и сказала: — Пух. Убит.
Затем продолжила чтение: — «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты? (Другому.) Ты? (Третьему.) Ты? (Стремительно взвешивает, как быть, и, не давая развиваться контрудару, с оружием наступает на парней.) Нет таких? Почему же?.. (Сдерживает себя и после молчания, которое нужно, чтобы еще немного успокоить сердце, говорит.) Вот что. Когда мне понадобится, — я нормальная, здоровая женщина, — я устроюсь. Но для этого вовсе не нужно целого жеребячьего табуна».
Инна сунула текст в карман кожанки, сняла ее и бросила поднимающемуся с пола Клоуну. Тот ушел с курткой в кулису.
— Спать хочется, — сказала Инна и потянулась.
На койке зашевелился Парийский, пошарил под подушкой, нашел очки и надел их.
— Который час? — спросил он.
В дверях показался Алик с топором, как дровосек. К его одежде налипли щепки.
— Светает, — сказал он, положил топор под кровать и сел на телевизор.
Парийский встал с койки, покачнулся и вытянул руки перед Собой. Руки сильно дрожали.
— Фу-у, — вздохнул он и сказал: — Надо снять колотунчик…
Этот «колотунчик» он произнес с заиканием и принялся копаться в ящике стола, шелестя обертками лекарств. Насыпав на ладонь штук семь разноцветных таблеток, Парийский заглотил их все сразу и пошел умываться.
На полу возле койки вповалку спали Клоун и Поляков. Когда Парийский ушел на работу, из кулисы показались Инна с Воло-вичем. Они быстро разделись и легли на свободную койку. Стемнело. Лишь голубовато светился экран телевизора, и поэтому были видны ноги Алика, продолжавшего сидеть на телевизоре.
Луч прожектора выхватил лицо Клоуна, глаза которого были открыты.
Клоун приложил ладонь к уху и прислушался к шепоту, доносившемуся до него с койки:
— Ты была с ними?
— Нет, не была.
— Какая ты крепкая…
— Какой ты большой…
Клоун сжал зубы, поморщился, как от боли, и зажал уши ладонями. Проснулся Поляков, сел, потер глаза пальцами. Его светлые волосы были всклокочены, а рыхловатое лицо припухло от сна и выпитого накануне.
— Пойдем на Ленивку, — сказал Поляков.
— Пойдем, — сказал Клоун и кисло улыбнулся.
Волович встал с кровати, накинул на узкие плечи пиджак и спустился со сцены в зал. Подойдя к режиссерскому столику, Волович зажег на нем настольную лампу, нащупал в кармане пиджака сигареты и, закурив, сел.
— На сегодня достаточно, — сказал, кашлянул, посмотрел на часы.
В верхнем фойе поблескивал паркет и стояли кресла в белых чехлах. Парийский сидел в одном из кресел и покуривал. Поляков, держа в руках гитару, подошел к нему, спросил:
— Ты завтра дежуришь?
— Да. А что? — белый тонкий палец прижал мостик очков к переносице.
— Сестру хотел показать.
Парийский в знак согласия кивнул и, увидев выходящего из зала Воловича, встал. Следом за Воловичем вышли Инна, Алик и Клоун.
Алик, почесав в задумчивости крючковатый нос, спросил у Парийского:
— Юраш, ну что, я сегодня заберу телек?
— Давно пора, — сказал Парийский, спускаясь по мраморной лестнице клуба к фойе, где была раздевалка.
Волович шел с Инной и о чем-то шептался. Клоун снял с вешалки шубу Инны и предложил ей одеться. Когда их глаза встретились, Клоун покраснел.
Когда вышли на улицу, шел легкий снежок, было темно, фонари горели тускло. По набережной пробегали редкие машины.
— Мы пройдемся до Балчуга, — сказал Волович, беря Инну под руку.
— Я с вами, — сказал Поляков, держа зачехленную гитару на плече, как полено.
— Привет! — сказал Парийский.
— Привет! — сказал Волович, поднимая воротник демисезонного пальто.
У трамвайной остановки брусчатка мостовой поблескивала, как чешуя свежемороженой рыбы. Парийский поскользнулся, чуть не упал, но его поддержал за локоть Клоун, на котором была короткая куртка, и он зяб в ней. Алик курил и смотрел задумчивым взглядом в сторону метро «Новокузнецкая», откуда ждали трамвая.
Парийский надел кожаные перчатки, которые были великоваты и кончики пальцев которых были загнуты, как воровские отмычки.
Вздохнув, Парийский сказал:
— Волович предложил подхалтурить в одной программе. Он делает какую-то муру в своей редакции. Я отказался. Вернее, принял это сообщение, как говорится, к сведению, не более. Тот период, когда я мог халтурить, миновал. Мне сорок лет. Что же из этого следует? То, что актерство — это замыкание на себе. И я замкнулся. Смотрю на окружающих и вижу, что они бегут от себя — вовне. Я же наоборот — извне давно уже иду в себя, пропустив внешний мир через свою душу. Только в этом случае можно чего-то достичь. Другого пути нет. И в этом отношении я превращаюсь в замкнутого, неинтересного для других индивида, живущего от времени до времени в поисках вдохновения.
Читать дальше