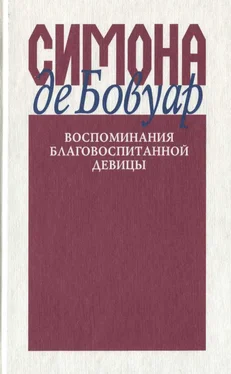Я неизбежно должна была прийти к этому перелому. Я была чересчур принципиальна, чтобы, чувствуя на себе Божье око, одновременно принимать мир и отвергать его. С другой стороны, мне было стыдно прикасаться к святыням, не веря в них безраздельно, и утверждать существование Бога, на деле обходясь без него. Мне казалась немыслимой сделка с небом. В сколь бы малом мы ему ни отказывали, это слишком много, если Бог есть; сколь бы мало мы ему ни отдавали, это слишком много, если его нет. Идти на сделку с совестью, выторговывать себе поблажки — такая мелочность мне претила. Я не стала хитрить. Как только мне все стало ясно, я решила раз и навсегда.
Отцовский скептицизм открывал передо мной дорогу; я чувствовала, что не одна на этом рискованном пути. Я испытывала огромное облегчение оттого, что, скинув оковы детства и половой принадлежности, смогла разделить идеи свободомыслящих людей, которыми восторгалась. Голоса Жанны д’Арк перестали меня волновать; мир был полон других загадок, привлекших мое внимание; вера приучила меня к тайнам. Мне было легче вообразить мир вообще без творца, чем творца, соединяющего в себе все противоречия мира. Моя недоверчивость осталась непоколебима.
И все же облик мироздания изменился. Сколько раз в течение последующих дней, сидя под пурпурным буком или серебристыми тополями, я с тревогой прислушивалась к пустоте небес. Прежде я чувствовала себя в центре живой картины, для которой Бог сам подбирал освещение и краски; всякая вещь тихим напевом славила Бога. Вдруг все смолкло. Какая тишина! Земля вертелась в пространстве, которое не пронзал ничей взгляд, и, потерянная на ее бескрайней поверхности, под слепым небом, я была одна. Одна; впервые в жизни я поняла страшный смысл этого слова. Одна — это когда нет свидетеля, не с кем поговорить, не у кого искать спасения. Дыхание в моей груди, кровь в моих жилах, брожение мыслей в голове — все это ни для кого. Я вскакивала, бежала в парк, усаживалась под катальпой между мамой и тетей Маргерит: мне было совершенно необходимо слышать чей-нибудь голос.
Я сделала еще одно открытие. Как-то днем, в Париже, я осознала, что смертна. Я была одна дома и не стала сдерживать отчаяния: я кричала, царапала красный ковер. Потом я встала и оторопело спросила себя: «А как живут другие люди? Как мне теперь жить?» Ведь невозможно, думала я, всю жизнь носить в душе этот панический страх; когда смерть уже не за горами, когда тебе тридцать или сорок, то говоришь себе: «Это может случиться завтра»; как такое вынести? Больше, нежели самой смерти, я боялась этого страшного ожидания, которое вскоре и навсегда должно было стать моим уделом.
К счастью, когда начался учебный год, мои метафизические прозрения стали случаться реже: не было ни времени, ни возможности побыть одной. Что касается повседневных привычек, то произошедшая со мной метаморфоза не изменила их. Я перестала верить, обнаружив, что Бог никак не влияет на мое поведение; отрекшись от Бога, я продолжала вести себя, как и прежде. Нравственный закон, полагала я, продиктован Богом; но он так глубоко во мне укоренился, что действовал и после исчезновения Бога. Авторитет моей матери не опирался ни на какую сверхъестественную власть, ее решения были для меня непреложны только в силу моего к ней уважения. Я продолжала слушаться. Все осталось при мне: чувство долга, идея заслуги, сексуальные табу.
Я не собиралась открываться отцу, это повергло бы его в страшное замешательство. Я одна носила в себе тайну и находила ее тяжелой: впервые в жизни я чувствовала, что добро и правда не совпадают. Невольно я смотрела на себя глазами окружающих — моей матери, Зазы, подружек, учительниц — и даже глазами той, другой, которой я была прежде. Годом раньше уроки философии у нас посещала ученица старших классов, про которую поговаривали шепотом, что она «не верит»; училась она хорошо, недозволенных разговоров не вела, и ее не выгоняли; но мне делалось немного не по себе, когда в коридоре я видела ее лицо, странность которого усугублялась неподвижностью стеклянного глаза. Теперь я сама чувствовала себя белой вороной. Моя вина была тем страшнее, что я это скрывала: я ходила к мессе, причащалась. Я безучастно глотала облатку, сознавая, что с точки зрения верующих совершаю кощунство. Скрывая свое преступление, я делала его еще ужасней, но как я могла в нем признаться? На меня стали бы показывать пальцем, выгнали бы из школы, я потеряла бы дружбу Зазы; а какую это вызвало бы бурю в сердце мамы! Я была обречена на ложь, и ложь далеко не безобидную: она бросала тень на всю мою жизнь, что особенно меня тяготило, когда я общалась с Зазой. Ее прямолинейность приводила меня в восхищение; моя тайна ощущалась мной как порок. Я снова была жертвой злых чар, которые не могла сбросить: не совершив ничего дурного, я чувствовала себя виновной. Если бы взрослые назвали меня лгуньей, притворщицей, двуличной и извращенной девочкой, то их приговор показался бы мне одновременно верхом несправедливости и эталоном правосудия. Я как бы существовала в двух разных измерениях: то, чем я была внутри себя, никак не соприкасалось с тем, чем я являлась для окружающих.
Читать дальше