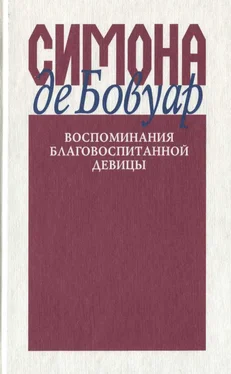Я не жалела об этом; у меня были мои книги, мои игры и повсюду — объекты для созерцания куда более интересные, чем плоские картинки: настоящие, живые мужчины и женщины. В отличие от безмолвных предметов люди были наделены сознанием и не внушали мне беспокойства: они были на меня похожи. Когда по вечерам фасады домов становились прозрачными, я искала глазами освещенные окна. Там не происходило ничего особенного, но, если какой-нибудь ребенок садился за стол и читал книгу, у меня возникало ощущение, что я, как на сцене, вижу собственную жизнь. Женщина накрывала на стол; двое разговаривали — домашние сцены разворачивались вдалеке, озаряемые светом люстр, и вполне могли соперничать с самыми пышными феериями «Шатле». Я чувствовала свою к ним причастность; мне казалось, что при всем разнообразии декораций и актеров перед моими глазами разыгрывается всегда один и тот же спектакль. Моя собственная жизнь, перемещаясь из дома в дом, из города в город, добавляла новые нюансы к бесконечному разнообразию этого действа; она распахивалась в бескрайний мир.
Днем я любила подолгу сидеть на балконе, куда выходила столовая: у моих ног шелестели кроны деревьев, затенявших бульвар Распай, я провожала глазами прохожих. Привычки взрослых я знала недостаточно хорошо, чтобы пытаться угадать, на какое все они спешат свидание, но меня зачаровывали их лица, силуэты, звук их голосов. По правде говоря, я и теперь не очень понимаю, как объяснить то ощущение счастья, которое они мне давали, но когда родители решили переехать в дом № 5 по улице Ренн, я, помню, пришла в отчаяние: «Как, не видеть больше людей, что гуляют по улице!» Меня хотели отделить от мира, обрекали на изгнание! За городом уединение не пугало: там вполне хватало природы; в Париже нужно было человеческое присутствие. Сущность города — в его обитателях. Близких друзей у меня не было — так хотя бы видеть чужих. Время от времени у меня стало возникать желание вырваться за пределы моего круга. Меня пленяли походка, жест, улыбка; иногда хотелось побежать за незнакомцем, который вот-вот повернет за угол и исчезнет навсегда. Однажды в Люксембургском саду я увидела девушку: она крутила веревку, через которую прыгали дети. Девушка была высокая, в светло-зеленом костюме, с розовыми щеками и нежным, как будто искрящимся смехом. Вечером я заявила сестре: «Я знаю, что такое любовь!» Я и в самом деле предугадала что-то новое. Отец, мать, сестра — я любила их, но они изначально были моими. Я впервые почувствовала, что сердце может быть поражено сиянием, приходящим извне.
Эти мимолетные порывы не нарушали моей крепкой привязанности к «фундаменту». Выказывая интерес к чужим, я, однако, не мечтала о другой судьбе и никогда не жалела о том, что родилась девочкой. Как я уже говорила, стараясь не терзать себя мечтами о несбыточном, я с легким сердцем принимала то, что было мне дано. Да и вообще не видела никаких причин роптать на судьбу.
Поскольку братьев у меня не было и я не могла сравнивать себя с мальчиками, мне не приходило в голову, что иные раздражавшие меня запреты объясняются моей половой принадлежностью. Я восставала исключительно против ограничений, связанных с возрастом. Меня возмущало, что я маленькая, но не то, что я девочка. Мальчики, которых я знала, ничем особенным не отличались. Самым умным из них был Рене, которого в порядке исключения приняли в начальный класс школы Дезир; оценки у меня все равно были лучше. Что касается души, то моя была для Господа Бога не менее драгоценна, чем души мужчин. Так чему же завидовать?
Наблюдая за взрослыми, я делала двоякие выводы. С некоторых точек зрения папа, дед и мои дядья казались мне значительнее, чем их жены. Однако в моей повседневной жизни первые роли принадлежали Луизе, маме и школьным учительницам. В книгах мадам де Севинье и Зенаид Флёрио героями всегда были дети, взрослым отводилось второстепенное место. Отцы — те вовсе не шли в расчет, но матери так или иначе занимали главенствующее положение. Взрослых я оценивала с точки зрения их причастности к детству — тут женщины котировались выше. В играх, мыслях, мечтах я никогда не представляла себя мужчиной. Мое воображение обыгрывало женское предназначение.
Это предназначение я видела по-своему. Не знаю отчего, но физиологическая сторона вопроса очень скоро перестала меня занимать. В деревне я помогала Мадлен кормить кур и кроликов, но это быстро мне наскучило. Нежность их шерстки и пуха не будила во мне ничего. Я никогда не любила животных. Красные сморщенные младенцы с мутными глазами тоже не интересовали меня. Если я и переодевалась в медсестру, то лишь затем, чтобы подобрать раненых на поле боя, — никогда, чтобы их лечить. Правда, однажды в Мериньяке, держа в руках резиновую грушу, я понарошку делала клизму моей кузине Жанне; ее неуверенная улыбка и пассивность пробуждали во мне садистские инстинкты. Не помню других сцен того же рода. В детских играх я соглашалась на роль мамы только при условии, что мне не нужно будет никого выкармливать. Мы с сестрой презирали других детей, которые, вопреки логическому ходу времени, предавались подобным забавам. Наши куклы были похожи на нас, они умели говорить, рассуждать и жили в том же времени, что и мы, старея ежедневно на двадцать четыре часа. В реальной жизни я была скорее пытлива, чем систематична, скорее усердна, чем мелочна, но я с шизофреническим упорством играла в строгость и экономию, тренируясь на кукле Бланди-не. Я была образцовой мамой замечательной дочки и давала ей самое совершенное воспитание, приносившее огромную пользу, — так, играя в необходимость, я оправдывала рутинность повседневной жизни. Я терпела ненавязчивое участие сестры, но сама, когда речь шла о воспитании ее детей, вела себя на редкость авторитарно. Мужчины тоже не должны были вмешиваться в столь важные для нас дела, поэтому наши воображаемые мужья путешествовали. В жизни — я знала — всё совсем не так: подле матери семейства непременно существует супруг, и жизнь ее от этого полна тоскливейших обязанностей. Когда я размышляла о своем будущем, то непременные ограничения свободы виделись мне столь тягостными, что я заранее отказывалась заводить собственных детей; для меня важнее было формировать умы и души. «Значит, я стану учительницей», — решила я.
Читать дальше