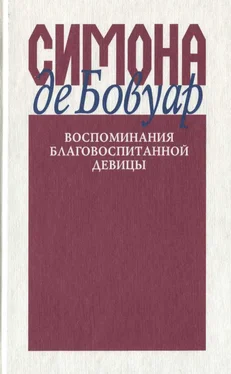В Лобардон я приехала к вечеру. Парк имения был менее красивым, чем парк в Мериньяке, но я нашла приятным дом с черепичной крышей, увитый диким виноградом. Заза повела меня в комнату, которую я должна была делить с нею и Женевьевой де Бревиль, невысокого роста девушкой, свежей и скромной, которой восторгалась мадам Мабий. На какое-то время я осталась в комнате одна, чтобы разложить вещи и умыться. С первого этажа доносились крики детей и звон посуды. Слегка смущенная новой обстановкой, я ходила кругами по комнате. На маленьком столике я увидела тетрадку, обтянутую черным молескином, и открыла ее наугад: «Симона де Бовуар приезжает завтра. Должна признаться, что это не доставляет мне удовольствия, потому что, говоря откровенно, я ее не люблю». Я оторопела; для меня это был новый и неприятный опыт: я никогда не предполагала, что кто-то может испытывать ко мне активную антипатию; меня испугал тот враждебный образ, который в глазах Женевьевы ассоциировался со мной. Я недолго размышляла об этом: кто-то постучал в дверь — это была мадам Мабий. «Я хотела бы с вами поговорить, Симоночка», — сказала она; меня удивила мягкость ее голоса: давно уже она перестала мне улыбаться. Она растерянно потрогала камею на бархатке и спросила, ввела ли меня Заза «в курс дел». Я ответила, что да. Она, похоже, не догадывалась, что чувства ее дочери охладели, и принялась мне объяснять, почему она против. Родители Андре препятствовали этому браку, к тому же они принадлежали к кругу очень богатых, грубых и беспутных людей, для Зазы совершенно не подходящих; нужно, чтобы она во что бы то ни стало забыла своего кузена; мадам Мабий рассчитывала на мою помощь. Я возненавидела это сообщничество, которое она мне навязывала; вместе с тем ее обращение взволновало меня: я представляла себе, чего ей стоило умолять меня о содействии. Я сконфуженно пообещала, что сделаю все, что в моих силах.
Заза меня предупреждала; в начале моего пребывания пикники, чаепития, вечеринки следовали друг за другом непрерывно; двери дома были широко открыты для всех: несметное количество родных и друзей собиралось ко второму завтраку, к чаепитию, для игры в теннис и бридж. Или же, сев за руль ситроена, мадам Мабий, Лили или Заза увозили нас танцевать к кому-либо из окрестных землевладельцев. В соседнем городке часто случались праздники; я присутствовала на баскской пелоте {215} 215 Баскская пелота — баскская игра в мяч.
, ездила смотреть, как молодые крестьяне, зеленея от страха, втыкают кокарды в загривки тощих коров, — иногда острый рог вспарывал их красивые белые панталоны, и все хохотали. После ужина кто-нибудь садился за пианино, все семейство пело хором; играли в игры — шарады и буриме. Домашние дела съедали первую половину дня. Все собирали цветы, составляли букеты, но главным образом готовили еду. Лили, Заза, Бебель делали кексы, бисквитные пирожные, песочное печенье, сдобные булочки к чаю; они помогали матери и бабушке раскладывать по банкам тонны законсервированных фруктов и овощей; вечно нужно было лущить горох, продергивать стручковую фасоль, чистить орехи, вынимать из слив косточки. Питание превращалось в долгое и утомительное занятие.
Зазу я почти не видела и немного скучала. Хоть я и была лишена психологического чутья, но все же отдавала себе отчет в том, что Мабийи и их друзья относятся ко мне с недоверием. Неважно одетая, неухоженная, я не умела сделать реверанс перед пожилыми дамами, много жестикулировала и громко смеялась. У меня не было ни су, я намеревалась работать — одно это уже шокировало; в довершение, я собиралась стать преподавателем в лицее; из поколения в поколение эти люди боролись против светского образования — в их глазах я готовила себе недостойное будущее. Я старалась побольше молчать, следить за собой, но все напрасно: каждое мое слово и даже молчание воспринимались в штыки. Мадам Мабий заставляла себя быть со мной любезной. Месье Мабий и престарелая мадам Ларивьер вежливо меня игнорировали. Старший из мальчиков только что поступил в семинарию, одна из сестер, Бебель, мечтала уйти в монастырь — они почти не обращали на меня внимания. Самых юных Мабийев я слегка удивляла — это значило, что они меня не одобряют. Что до Лили, то она и не скрывала своего осуждения. Прекрасно приспособившийся к своей среде, этот образчик благоразумия имел ответ на все вопросы — что бы я ни спросила, это неизменно вызывало у нее раздражение. Помню, лет в пятнадцать-шестнадцать в гостях у Мабийев я спросила вслух, почему, хотя все люди созданы одинаково, каждый по-своему воспринимает вкус помидора или селедки; Лили подняла меня на смех. Теперь я была уже не столь наивна, чтобы подставляться, но даже моя сдержанность задевала ее за живое. Однажды, когда мы сидели в саду, разговор зашел об избирательном праве женщин; все находили логичным, что мадам Мабий скорее должна иметь право голоса, чем какой-нибудь пьяница-чернорабочий. Но Лили знала из достоверных источников, что в бедных кварталах женщины «краснее», чем мужчины; если открыть им доступ к урнам, благое дело пострадает. Аргумент посчитали весомым. Я ничего не сказала, но среди всеобщего одобрения мое молчание было воспринято как несогласие.
Читать дальше