— Сейчас, сейчас! Погодите! Не ломайте калитку!
Бабушка не поспела: калитка была распахнута, во дворе — пусто. Я трус и л за бабушкой, а она причитала:
— Вот ведь страм-то Господень, прям хоть в церковь теперь не ходи, ведь ославит на всю ивановскую эта бабка Иванова. А что же я Мишке-то Князеву теперь скажу, он ведь еще одну поллитру будет требовать, а не то так две, и ведь он в своем праве — ухайдакал наш Крыс кота Мишкиного…
Я выбежал за калитку и увидел их удаляющиеся спины — Иванова шла с прямой спиной и оскорбленно задранной головой, ее бантики на косичках потряхивались при каждом шаге, а бабушка Ивановой семенила согбенно, даже своим загривком выражая обиду.
— Ты дура, Иванова! — закричал я что есть мочи.
Иванова оглянулась.
— Сам ты дурак! — завизжала она на всю улицу, и я понял, что больше не хочу с ней водиться.
Бабушка стояла рядом и все гладила меня по макушке.
— Прости меня, Санёга, это я во всем виновата. Не серчай на бабушку.
И всхлипнула:
— Прости меня, дуреху старую.
Волна теплой жалости к бабушке захватила меня, я прижался к ее затхлому фартуку и затараторил, зачастил с жаром:
— Ты не виновата, бабушка! Ты самая лучшая! Я люблю тебя больше всех! Больше мамы, больше папы, больше Кати!
— Нельзя так говорить, Сашуля, — повторяла бабушка и все гладила и гладила меня по макушке. — Нельзя…
— Можно, бабушка! Ты самая хорошая на свете, бабушка!
И я действительно любил в тот момент бабушку больше всех на земле, и на донце этой сердечной любви сжалась в клубочек, будто спящий котенок, пушистая, добрая жалость.
И как-то сошло все на нет, затерлось, позабылось… Мое горе горькое, большое, в три обхвата, потерзало меня, потерзало… Но ведь кругом распускались на деревьях листочки, по вечерам возле березы летали майские жуки, солнышко притапливало сильнее, можно снова было печь картошку и жарить хлеб на горящем пенопласте, лить свинец во дворе, бить «финальти» и выкапывать в песочнице гусениц-шелкопрядов — так называл их Чурихин.
— Ты больше так девочек не называй никогда, Санёга, — поучала меня бабушка. — Это слово нехорошее, стерва-то. Я ж его по-свойски при тебе говорила, не на людях. И то в сердцах. Ну мало ли что скажет бабка старая, а ты и повторяешь.
— А что это за слово такое? Что означает?
— Так, Санёга, нехороших тетенек называют, — строго сказала бабушка и поджала губы, явно осуждая всех на свете «нехороших тетенек», без изъятия.
А вчера дядя Витя говорил мне, что стерва — это дохлая лошадь. Уж он-то вроде, должен бы знать… И ничего обидного в мертвой лошади я не находил. Ну, разве что — чуть-чуть, потому что умирают только очень старые лошади, а Иванова — еще девочка, еще маленький совсем жеребеночек. Вот она поэтому и обиделась, наверно.
А, оказывается, стерва — это еще и «нехорошая тетенька». Тогда понятно. Я уже примерно представлял, кто такие «нехорошие тетеньки». В детсаду объяснили — и девочки объяснили, и мальчики. И еще — стиляги, поющие песни в скверике возле памятника «На троих». Битлы, то есть. Нехорошие тетеньки сидят без трусов на коленях у чужих дяденек, и при этом им нисколечко не стыдно. Им это даже нравится. Поэтому бабушка называет их бесстыжими. А не нехорошим тетенькам не нравится сидеть без трусов на коленях у чужих дяденек, им бывает от этого стыдно.
Бабушке удалось кое-как объясниться в церкви с бабушкой Иры Ивановой, они даже вроде бы посмеялись над той историей с мертвым котом Дымком.
Дядя Миша несколько дней кряду шатался под нашими окнами, и моя бабушка не открывала их, устамши от домогательств соседа. Он стучал иной раз в стекло, ныл сквозь слезы:
— Эх, баб Оль, помер Дымок-то! Какой был котик необыкновенный! Дай, баб Оль, трешницу, Дымка помянуть…
Как-то дядя Миша таки улучил момент, когда бабушка распахнула створки, прильнул своим лбом к подоконнику, и стоял так, бубня монотонно:
— Дай Дымка помянуть… За упокой… Родной был он мне, безгрешная котья душа…
— Миша, да ты серку не жуешь [17] «Серку не жует» — старинное простонародное выражение, которое изначально относилось к больным, «совсем плохим» коровам; верный признак заболевания — когда корова теряла аппетит и переставала жевать отрыгнутую ею траву — т. н. серку. Применительно к пьяным это выражение означало, что мужик совсем ослабел от выпитого.
! — корила его бабушка через оконный проем.
Дядя Миша оттолкнулся лбом от подоконника, посмотрел мутным взглядом, раскачиваясь на нетвердых ногах.
Читать дальше






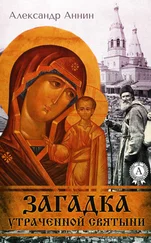





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)