— Пока! До завтра!
А еще Иванова зачем-то крикнула — это уж совсем напоследок:
— Пиши!
Тоже из кино какого-то про взрослую любовь… Было очень здорово услыхать это недетское «пиши»: значит, Иванова дает мне понять, что это у нее надолго, навсегда, мы будем вместе, когда вырастем!
Мы с бабушкой завернули в магазин «Бугорок» («чтоб люди не видали, Санёга»), и бабушка, озираясь по сторонам в пыльном, без окон, помещении, попросила у продавщицы бутылку водки, самой дешевой.
— Три двенадцать, — сонно бросила дородная, размалеванная продавщица, избалованная знаками внимания со стороны шоферов.
— Это что же, за два девяносто семь нету, что ли? — спросила бабушка несмело.
— Весь выпили «сучок» на Пасху, мужики говорят, нигде в городе его нету, теперь только к первому мая привезут.
И длинно зевнула.
— За три двенадцать брать будете?
— Беру, беру…
Продавщица равнодушно стукнула бутылку о дощатый прилавок, кинула деньги в ящик. Больше в затхлом кирпичном магазине, к вящему бабушкиному удовольствию, никого не было — шофера с последнего рейса еще не подоспели.
А я все стоял, неподвижно уставясь в пол посреди магазина — дощатый гладкий пол… Значит, вот тут она и лежала, когда ее затаптывали насмерть из-за киселя, та старушка маленькая.
— Ты чего, Санёга? Пошли, — торопила меня бабушка.
— Она здесь умерла, бабушка? — проговорил я не своим голосом.
— Кто? Про кого ты? — обеспокоилась бабушка, а потом, видимо, вспомнила, поняла:
— Будь уж дурюй-то маяться, встал как истукан и стоит! Пошли, нечего тут…
Продавщица с любопытством смотрела на меня, словно очнувшись от своих мечтаний.
По дороге бабушка сказала виновато, словно извиняясь за какой-то нехороший поступок:
— Не переживай из-за чужой старухи, она отмучилась на этом свете. Ей теперь хорошо. Эх, Санёга… Все там будем.
— А почему их всех в тюрьму не посадили?
— Кого?
— Всех людей, которые старуху затоптали.
— Ты очумел, что ли? Это же народ. Разве народ сажают?
— Им ничего не будет?
Бабушка только отмахнулась.
А я непреложно чувствовал, что никто из тех, кто был в «Бугорке» во время давки из-за крахмала, не переживает смерть старухи, не мучается тоской вины. Никто ни о чем не жалеет. Потому что людей было много, а не двое-трое, тем более — не один. Когда много людей — это народ. Народ всегда знает, что он ни в чем не виноват.
Примерно так я думал… нет, даже не думал, а чувствовал, в тот весенний день. И я не хотел быть среди этого народа. Становиться его частью. Быть таким, как он, как все.
И, слава Богу, никогда не стал.
…Сразу пошли в дом Князевых.
— Вот, смотри, Марина, баба Оля мне магарыч за Дымка принесла, — докладывал жене дядя Миша.
Перед этим бабушка пыталась было всучить ему поллитру тайком, но он смело, а не воровато взял из ее руки бутылку и теперь открыто демонстрировал ее тете Марине, глядя насмешливо и вопросительно.
Тетя Марина соображала пару секунд, морща свой остренький, короткий нос, ничего не придумала, сказала:
— Ну, под воскресенье можно. Только не всю сразу.
Дядя Миша самолично отнес Дымка в бабушкин чулан, при этом что-то ласковое нашептывал ему на ухо. Гордый кот сидел на руках дяди Миши, «как истукан египетский» — по ворчливому выражению бабушки, которая все еще до конца не верила в способности серого крысолова.
— Уж не нашей ли киски Лиски этот котик? Не ее ли сынок? — маялась догадками бабушка. — Похож. Ты в том году где подобрал-то его, Миша?
— Не помню уже, выпимши был, наверно, — отрезал дядя Миша, пресекая бабушкины поползновения заявить свои права на Дымка. — А Лиску вашу, поди, давно уж машина сшибла.
И Дымка поместили в чулан, дядя Миша и миску его прихватил, и еды немного — так только, червячка заморить, для пущей котьей злости.
И Дымок с чувством собственного достоинства улегся возле сундука.
— Все по-честному, баб Оль, — сказал дядя Миша на прощанье.
Я ворочался, ворочался на своем диванчике, а бабушка давно спала, и часы за стенкой пробили в темноте много раз подряд. Но уж зато уснул я — из пушки не разбудишь. Я, кстати, не понимал этого выражения — «из пушки не разбудишь». Ну, выстрелит пушка, и что — все просыпаться должны, что ли? Над нашим кварталом постоянно раздавался грохот самолетов: как объяснил мне Пашка Князев, этот грохот был тогда, когда самолет начинал лететь со скоростью звука.
Все самолеты были военные, потому что в Шувое стоял авиационный полк. И мы все всегда отлично спали под этот ночной и предрассветный грохот. Когда посреди лета на задворках города рухнул испытательный самолет, квартал наш содрогнулся от удара, а было это в семь утра, и, помню, я лишь повернулся на другой бок… «Мелькают кварталы, но прыгать нельзя, Дотянем до леса, решили друзья» — эти слова написали потом на алюминиевом хвосте разбившегося самолета, этот покореженный хвост выправили и поставили на летчицкой братской могиле. И песню про огромное небо сочинили именно по этому случаю, в это непреложно верили жители Егорьевска: «А город подумал: ученья идут». Мы все и впрямь по первости так подумали, что это испытания или ученья, но тем же утром бабушка в очереди за молоком услыхала передаваемый от одного к другому, по цепочке, шепоток — мол, самолет разбился.
Читать дальше






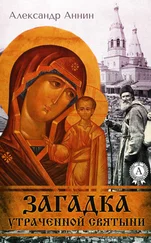





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)