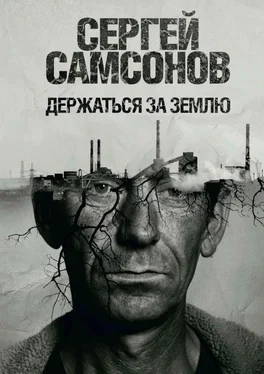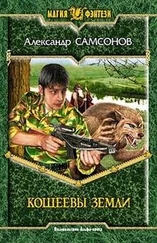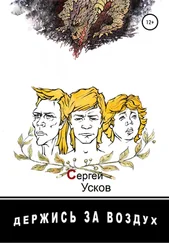«А может, и прав ты, Скворец, — подумал Петро, сжимая плечи брата и чувствуя, как голова того трясется на груди. — Валек, он чистый. За ним и грехов — те шоколадные конфеты в третьем классе. Чревоугодие по малолетству, так сказать. Бережет его жизнь от того, что нам делать приходится. Не дает совершить грех убийства… А на мне почему до сих пор ни царапины? Ведь в таких переделках бывал — танкам в дуло заглядывал. А Полинка в земле, и на Толике места живого… Кому это надо? Зачем? За что это мне? Вот что я из этого должен извлечь? Что я их всех резать хочу?..» И застонал сильнее, чем контуженный Валек, так застонал, что и Скворец, привычный к самым диким крикам, испугался:
— Ты что, Петь?! Нормально все будет! Я, знаешь, таких сколько уже перетаскал — и все как новенькие на своих двоих обратно приходили!
Заехали в больничный парк с перекалеченными артналетом старыми деревьями. На подъездной аллее хирургического корпуса творилось что-то будничное и в то же время небывалое: сгружая со Скворцом безвольного в беспамятстве Валька, Петро увидел белый, как будто туристический автобус с какой-то зеленой аптечной рекламой по борту, такой же мини-вэн и несколько «газелей».
Ополченцы и сестры со знакомыми и незнакомыми лицами выносили и передавали друг другу одеяльные свертки с младенцами, выкатывали тряские больничные тележки с видневшимися из-под одеял цыплячьими руками и ногами, тащили и сопровождали носилки, неся над ними полные прозрачные мешки и перевернутые склянки капельниц. Среди бронежилетов, камуфляжа, салатовых и голубых комбинезонов виднелись обритые детские головы в стерильных намордниках и дыхательных масках, бескровно бледные, в зеленочных клевках, с уродливо несоразмерными, мучительно грубыми швами, напоминавшими шнуровку допотопного футбольного мяча.
«Приехали», — сказал себе Шалимов, и как будто кусок изоленты отодрали от сердца.
— В обход давай, в обход! — крикнул кто-то над ним, и Петро со Скворцом повернули налево.
С каждым шагом слабел и, едва лишь спустили Валька по ступенькам в подвал, попросил:
— Слышь, Скворец, я пойду… надо мне… Не кидай его, понял? Обскажи тут врачу, что и как, чтоб они в дальний угол его не откладывали… Надо мне!
— Я понял, Петя, понял. Не боись, в лучшем виде устроим!..
Опустил брата на пол, рванулся наверх и, не чуя земли под собой, очутился вблизи толчеи, копошения… Все работали так, словно делали это всю свою предыдущую жизнь. Не лез, не мешал, только пил взглядом эту проточную вереницу людей, одеяльных кульков и носилок… и увидел вдруг Ларку, привязанную к непомерно великой для детского тела каталке, и в тот же миг она увидела его, и лицо ее дрогнуло, но и дальше пошла за каталкой, как собака бежит за хозяйской телегой.
Следом вывезли Толика — он узнал сына так же, как дома, еще до всего, узнавал его под одеялом, в тот же миг отличая от Полечки, увидел его как бы разом во всех возрастах… Вот и того, с сердито сморщенным, горящим новизною красным личиком, с белесым пушком на спине и пухлыми ручонками с подвернутыми пальчиками, еще не человека, червяка, которого взял на руки впервые… Вот и того, кто вел его, отца, за палец по Изотовке; вот и того, кого сюда принес, не ведая, живого или мертвого. Увидел с огуречными пупырышками на коленках, со всеми заживающими ссадинами, со всеми веснушками на переносице и родинками на руках и ногах.
Танюху он увидел с Толькой одновременно — обоих как целое. Идущая за сыном в каком-то помогающем наклоне, тянясь к нему жадным, как губка, лицом, она перетекала взглядом в Толика, в большие руки медсестер, что-то делающих с его телом на бегу от крыльца до автобуса.
Петро растолкал спины-плечи и поймал ее за руку, обжигаясь своим задыхавшимся голосом:
— Куда?! Куда?!
— В Ростов. — Сияющие трепетной, пугливой теплотой глаза взглянули на него, но так, словно смотрели сквозь него на Толика. — В Россию, бог даст…
— Отойдите, папа, не мешайте! — пихнула Шалимова маленькая, сухая докторица с измученно-помятым и в то же время странно светлым, оживленным большими глазами лицом, и он немедля понял, что она тут главная, и отступил с дороги, как и всякий работяга, воспитанный в потомственном почтении к врачам, поразившись и не поразившись, что та моментально распознала в нем «папу».
— Позвони! Матери позвони! — крикнул он Таньке в спину, покорно пятясь от автобуса и глядя, как она затаскивает внутрь рыночную клетчатую сумку.
Врачиха забралась последней, и дверь отрезала его от Танюхи и сына… «Кого эта мышь может вывезти?» — спросил он себя, передергиваясь от страха накликать беду, и вдруг, точно кожей в забое, поверил: да, может. Хотя бы просто потому, что, кроме этой мыши, сюда никто и не приехал за детьми. Какая-то она была… ну вся как в мозолях от прикосновений, от умоляющих цепляний матерей, от детских рук, обхватывавших шею, от повисавшей легкой тяжести: «Неси, своих сил нет, мы дети».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу