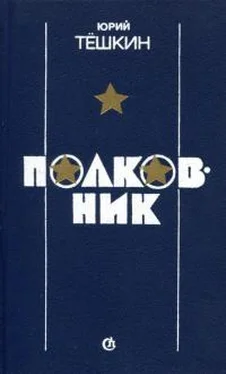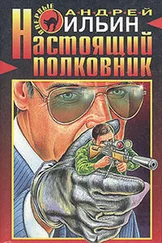А кроме того, мелькнувшая мысль о справедливости вообще вывела его на конкретность, то есть к самому субъекту Эксперимента — Ивану Федоровичу. Дорисовывая один квадратик вместо двух, первый зам с каким-то хорошим чувством подумал об Иване Федоровиче. Все-таки два квадратика было бы несправедливо по отношению к нему как к человеку. А один — это честно. Лично Ивану Федоровичу первый зам никак не хотел бы принести хоть крупицу несправедливого зла. Ну а против зла справедливого — тут уж ничего не поделаешь. Науку следует делать стерильно чистыми руками — аксиома. В этом деле чрезвычайно важно было ему, Эксперимент проводящему, соседствовать на каких-то близких с Иваном Федоровичем уровнях. Лишь бы только до конца выдержать это чуткое равновесие не всегда уловимой справедливости… Вот же, чуть-чуть не поддался слабости, чуть-чуть не дорисовал сразу два квадратика — так ведь хотелось! — а нельзя! Не имеет права первый зам на это!
* * *
И все же первый зам мог смело ставить два квадратика, ибо в это же время Иван Федорович у себя в палате рассматривал язву на большом пальце ноги, помешавшую сегодня перенести коробок. А может, и не совсем язва помешала, а просто не успел, уже проснулась больница, а Ивану Федоровичу после вчерашнего свидания с Марией было трудно поднять на людей глаза. Накричал вчера, обозвал, выгнал и вдогонку крикнул какую-то гадость. И еще долго выворачивало его после ухода плачущей жены, выворачивало, корчило и собачило от одного только вида жены, от одного только воспоминания. Всеми клетками вдруг ощутил он физиологию свою и ужаснулся от омерзения. Так вот оно что такое — ревность! Плевался, мыл руки с остервенением, старался не дышать тем воздухом, которым пять минут она дышала, и чувствовал, что вернись она — разорвал бы в клочья. Или презрительно б плюнул с двух шагов, чтоб рук не марать.
С тоской и тяжестью в затылке теперь думал, что из-за бессонной ночи к утру только забылся и проспал предрассветные облака. Поэтому, наверное, день начался смутно, неуверенно, из палаты выходить не хотелось. Вот и придумал занятие — рассматривать на большом пальце маленькую язвочку, впрочем, действительно мешавшую при ходьбе. А вспоминал при этом, когда же началось в нем это жадное, лихорадочное какое-то ощущение собственной физиологии. Недели с две тому назад, когда так страстно, к удивлению обоих супругов, он обнимал свою Марию? Чувствуя впервые ее вот так — всю-всю. С запахами, с дыханием, полузвуками, неравномерностью какой-то восхитительной упруго-гибких и нежно-мягких частей ее тела, с горьковатостью волос, которых касался он губами, с ее дрожью, гулкими ударами сердца под его руками… Да нет, скорее всего, началось все много раньше: как попал сюда, сразу. Помнится сон тогда.
Словно бы видит он Марию опять молодую, красивую, какой впервые встретилась она. И вроде бы на ней яркий спортивный костюм, так хорошо подчеркивающий длинные красивые ноги. Тем более — сидит она на санках, широко раскинув ноги в обтягивающих брюках. И смеется, и откидывается, готовая вот-вот начать с горки стремительный спуск вниз. А сзади нее кто-то мужского пола то ли обнимает, то ли подталкивает к спуску. Вроде как это делают тренеры на санных соревнованиях. Вообще-то у Ивана Федоровича как будто б и нет никаких оснований для беспокойства. Тем более кругом столько празднично нарядных людей, да-да, пожалуй, это спортивный праздник. По-видимому, и еще кого-то так же готовят к спуску с горки. Вот только эти красивые длинные ноги Марии, в каком-то они звенящем напряжении. Звенящее — это, скорее, к душе Ивана Федоровича должно относиться, а ноги как ноги — красивые, длинные, в обтягивающих брюках… только вот раскинуты они странно так… Но почему странно? — просто санки между ними и-и… этот — сзади Марии, не то обнимающий ее, не то просто готовящий к спуску. Вот и весь сон.
Но вот с этого сна что-то звенящее и осталось в Иване Федоровиче, уже невольно воспринимал он и наяву Марию такой, какой во сне впервые так странно узрел — на санках быстрых с раскинутыми ногами. Теперь почти постоянно он чувствовал то оскорбляющее его томление, что было наверняка в этих напряженно-широко распахнутых ногах. Все закипало в нем от этого, вскипать начинал какой-то грязевой вулкан, какая-то медвежья хватка появлялась. Да-да — вспыхивало по отношению к Марии такое, что лучше уж ей действительно не приходить. А главное — ну что изменилось? Может, только сейчас узнал он всю правду? Увы, увы… Или, может, любит меньше свою Марию? Пожалуй, нет, но… но только такая любовь — это уже как перехваченное горло: вот-вот разорвет или задушит.
Читать дальше