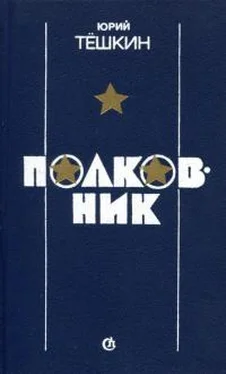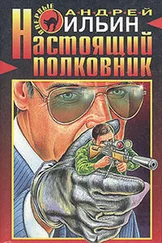Уже водку почти что и не пил: одеколон, туалетную воду. Эх, и хороша ж была водичка туалетная! Десять бутылок — четыре рубля. Потом уж и на это денег не хватало. Политуру пил, зеленку, лак для окраски ногтей, жидкость от потливости ног — господи! — чего я только не пил! Все в ход шло, в чем хоть капля спиртного была. Паста, зубной порошок… Ведь не поверите, если скажу, что однажды кто-то брякнул, будто бы старая известка на спирту замешивается, так взял ободрал всю штукатурку со стены, разболтал в воде и воду ту выпил. И смех и грех! Утром идешь в туалет, а твоя моча сверкает всеми цветами радуги — такие, брат, дела! Помню, раз под мостом через реку спрятались с дружком от людей подальше, из ржавой баночки пьем политуру, запиваем прямо из реки и ржавой селедочкою заедаем. Над нами машины проносятся, люди туда-сюда проходят, а мы в полумраке сидим, от всех скрытые, возле самой воды, у замусоренной речушки, и пьем из ржавой банки, и селедочкой вонючей с удовольствием закусываем. И, представьте, нет на свете счастливее нас!
Под этим мостом мы теперь частенько собирались с Серегой Исаевым. Дружок там у меня такой объявился. Он работал вначале главным инженером, сам рассказывал, но постепенно докатился до того же, до чего и я. У нас уже там был стакан, мы его прятали за сваей на полочке. Ложка была, на всякий случай, если вдруг у нас иногда закуска объявится. Хорошо было нам сидеть в сумерках, а над головой машины проносятся. Молчать и тихонько пьянеть. И в какое-то новое все больше впадать состояние. Когда все-все понимаешь. И уже что-то большое и никогда не осуществимое начинает видеться тебе, перед чем все наши дела смехотворными потугами кажутся. Все лучше, все мудрее видится окружающее. Неважно, что завтра будешь мучиться, от кошмаров на стенку лезть будешь. Все это будет завтра; а сегодня — тихое блаженство, благодушное прозрение. Не глазами, душой созерцаешь Прекрасное — и в этом суть и счастье. Пускай проходят, мост сотрясая, над нашими головами машины, пускай бегут по своим делам люди, мы сидим молчим, наливаем, выпиваем. Наслаждаемся. Иногда спросит один: «Ну, как пошла?» — «Ничего», — другой ответит. И опять сидим кайфуем. Одним словом, вот так я в Хабаровском крае и испортил себе желудок окончательно. Уже и до язвы дело дошло. Врачи посоветовали сменить район проживания. И вот я оказался здесь — в Московской области.
Тут мне сначала даже немного повезло. Послали строить для подсобного хозяйства химкомбината коровники, цементировать скотные дворы и прочее. Неделями я не бывал на объектах — и ничего, все как-то с рук сходило. А в том году в город перевели. Три раза уже разбирали на собраниях и судах товарищеских. Все нервы и издергали! Тут такая шайка-лейка собралась в товарищеском суде во главе с Константой Спиридоновной, старой девой. Душа товарищеского суда! Так в стенгазете на Восьмое марта и написали — душа! Так вот, они меня уже этой зимой вплотную к принудлечению подвели. Пришлось слово дать, что сам стану ходить в больницу, сам стану антабус глотать. Полтора месяца я выдержал, а потом думаю: «А-а, была не была!» Взял после этого антабуса бутылку пива и выпил — и ничего, не загнулся. Так что, я думаю, все эти лечения — е-рун-да! Больше на псих берут. Но теперь-то, пожалуй, уж больше мне не отвертеться. Принудлечение это принудлечение!
А как у них еще зимой руки чесались на два годика меня в элтэпэ упрятать! И у Константы Спиридоновны, и у Марьи Ивановны — профорга нашего. И ведь что ты скажешь — и эта тоже без семьи, видно, некуда силы девать. С какой яростью, с какой страстью меня спасать бросились! Дай волю — на два б срока меня упрятали. «Позор! Разложение! Деградация!» О боже… Да за что же мне такое наказание? Я ведь и так еле живой! Я устал от всего! Я теперь, если вусмерть не упьюсь, и не живу, а как будто все время еду по тряской дороге. Я все время не ощущаю то одну, то другую часть тела. Только я не тело не ощущаю, а как будто не ощущаю целиком свою натуру, душу свою, смысл свой.
Вот даже такой простой факт. Пока не дали мне место в общежитии, жил я в квартире мастера Колтунова, он уезжал на два месяца в отпуск к сестре в Ленинград и предложил пожить у него. Так вот однажды обнаруживаю себя я сидящим в кресле и читающим чужие письма: жены Колтунова к нему. Я их взял, оказывается, в ящике стола и спокойненько себе читаю. И тут я как будто включился: да ведь это же гадко — читать чужие письма! Хотя помню прекрасно: за полчаса до этого, когда я их только обнаружил, у меня и мысли подобной не было. Чего-то, какую-то часть своей души, где стыд у меня, значит, я совершенно не ощущал, наоборот, помню, радовался даже, что чужие письма обнаружил. Я ведь писем от жены не получал… а мог бы, повернись все по-другому, да…
Читать дальше