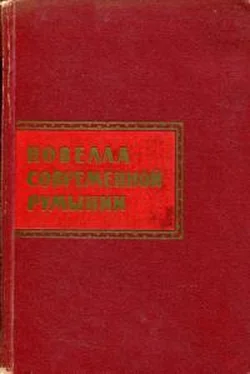В одну лодку садятся писарь Джикэ Стэнеску и доктор Ганчу, в другую — староста Бубулете с жандармом Жувете. В третью — управляющий Опря Кэцуй Стрымбул.
Корчмарь побоялся лезть в лодку. Он вернулся в корчму и занял свое обычное место за стойкой.
— Полина, приготовь-ка чего-нибудь поесть. После прогулки по воде доктор Ганчу и остальные приедут полумертвые с голоду… Нынче можно здорово заработать.
Три длинные, узкие, черные лодки закачались на мутной, пенистой воде. Они прошли мимо дубов, о которые разбивались волны, — мимо дубов, непоколебимых среди этого хаоса, — проплыли, покачиваясь, мимо затопленного хутора и затерялись где-то вдали у Бэнясы, за холмом, где большой виноградник безногого боярина еще дремал, укрытый землей.
Под суровым, гневным небом, грозящим дождем, среди темных замерзших холмов, в длинной и узкой лодке, рядом с желтым съежившимся писарем, толстенький доктор вдруг на несколько мгновений почувствовал, как в нем проснулся прежний худенький плюгавый студентик, каким он был когда-то. И доктор запел. Его голос доносился до железной дороги:
Лодку легко
Колышет волна;
Душа вся трепещет,
Любовью полна!..
— Вот тебе на! Здорово!.. Что это на тебя нашло, доктор?
— Пейзаж виноват, писарь, пейзаж. Он такой романтический. Поэтичный. Он…
Я стою рядом с отцом. Он спас жизнь деду Алисандру. Он спас и бабушку Лулуцу! Вместе с другими крестьянами он спас еще многих. Я держу его за руку. Дует резкий, холодный ветер. У отца рука теплая. Тепло его крупного тела переходит в мое хрупкое, маленькое тельце. Я согреваюсь его теплом.
— Не дай нам бог пережить еще такой год! Прошлым летом нас замучила засуха; зима была лютая; жестокий голод; а весна пришла с большой водой, с наводнением. Что еще нас ждет?
— Новые напасти, еще более тяжкие, дядя Тудор.
Тицэ Уе смотрит в землю. Взгляд у него упорный, без капли жалости. У него черное, исхудавшее лицо, ввалившиеся щеки, как у всех нас.
Рядом с ним остановились на дороге, увязнув в грязи, Лишку Стынгачу, дядя Пичикэ, Петре Згэмые, мой двоюродный брат Думитру Пэликэ, Иван Цынцу и мой брат Ион, с черными как смола, горящими глазами.
Но они смотрят не в землю. Они смотрят куда-то вдаль, за горизонт. Горизонт свинцовый. Мрачный. Но они смотрят на него большими, широко открытыми глазами, точно видят его уже охваченным пламенем…
Перевод с румынского К. Выгодской.
У нас в селе Мындрень случилась странная история. Представьте себе: дед Илие Корбя выступил по радио. Играл на свирели и пел…
Когда произошло это «чудо», деда в клубе не было. А когда я рассказал ему об этом, он посмотрел на меня искоса, поглаживая свой посох.
— Слушай, Прибой, — пробормотал он, — у тебя что, спина чешется? Не болтай чепухи, а то у меня ха-а-ро-ший посох и целая свора голодных собак.
— Нет, дедушка, — запротестовал я, — разрешите рассказать…
— Что ты мне расскажешь? Знаю я тебя: ты в россказнях и попа обставишь.
Но затем, как бы вспомнив что-то, он оперся на посох и приготовился слушать. И я начал: так мол и так, и подробно изложил все, что произошло. Глаза деда Илие расширились от удивления.
— Так, говоришь, старинная народная песня, — улыбнулся он многозначительно, как будто хотел сказать: попался, разбойник!
— Да, так именно и сказали: вы слушали деда такого-то из такого-то села, который исполнял старинную народную песню.
— Ну, коли в самом деле так сказали, то это те самые. Ну и жулики! На глазах обманули. Это дело рук тех людей, что приезжали из Бухареста со своими аппаратами.
Он засмеялся. Но смеялся на этот раз не от всего сердца, как смеялся обычно, когда рассказывал нам о разных случаях из своей жизни чабана: на этот раз смех его был какой-то особенный. В нем было больше удивления, чем веселья. Затем, притворившись, будто случившееся ему безразлично, дед Илие заявил:
— Велика важность!
Так говорил он всегда, когда я хвалил его песни: велика важность! Но на этот раз видно было, что он притворяется. Его душа была переполнена радостью, и скрыть ее он не мог.
Читать дальше