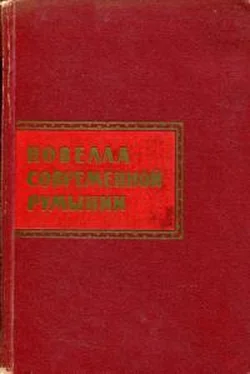Он не отвечает. Наверху все еще горит грязная лампочка. А стальной цилиндр вращается, вращается…
Мало строить дома, изменять лицо земли — самым важным всегда остается душа человеческая. Вот где больше всего надо менять! И это вовсе не легко. Надо бороться! Каждую секунду. С самим собой, со всем, что в тебе есть дурного.
Ну, разве не прав был Филипаке и разве не прав был Ангел?
«Жалко терять день…»
И все. Даже руки не пожала.
«Что ты хочешь, чтоб я сделала?»
Точно мимо стула прошла. Теперь уж он не нужен, теперь нет в нем необходимости. Ей нравились только деньги, которые он зарабатывал, больше ничего. А ты, дурак, молился на нее, как на матерь божью, будто никогда в жизни бабы не видел, будто она чудо какое-то. Что ты будешь теперь делать? Нельзя же все так оставить. Сегодня вечером ты откроешь ее калитку, твои шаги прошуршат по гравию двора, но ты найдешь ее дверь на запоре! Ты, как собака, будешь стоять у порога ее дома.
Что привело тебя к этой женщине? Дом со множеством подушек, комнаты, пропахшие дымом дорогих сигарет, которые ты ей покупал, все, что находилось в этих комнатах, — нагромождение вещей, которых у тебя не было, вещей, нажитых нечестно, на нищете таких, как ты, тех, кто тянул лямку, чтобы женщины вроде нее могли пребывать в праздности; она оплела тебя, зная, что твое сердце не устоит перед ласками легких рук.
— Готово? — перекрывая шум машин, кричит накладчица.
Антоникэ вздрагивает. Усталость одержала верх.
— Пускаем?
Она снова старательно наложила лист бумаги и ждала, что он что-нибудь скажет. Он с трудом поднялся, — нужна еще подкладка под печатную форму, надо заменить несколько стершихся строчек…
Зашуршал поршень. Антоникэ бессознательно прислушивается и чувствует, как сердце его наполняется гордостью.
Смазка пошла на пользу, после первой тысячи оттисков можно увеличить скорость.
Почему он не остановил Домнику? Нет, не может быть, чтобы все было кончено, — так просто, так быстро…
Талер чуть заметно движется. Теперь бумага идет хорошо. Валик ходит великолепно.
И так неожиданно…
Где она сейчас? Что делает?
Бумага, только бы не намагнитилась бумага…
Домника, какое имя!
Сегодня вечером надо пойти, надо пойти, надо ее спросить. Не может быть, чтобы все кончилось…
Скорее, скорее! Так, «кляча», так, родная!..
Не надо ходить. Зачем? Незачем это: все кончено! Так ты все еще не образумился, дорогой?
Девять тысяч сегодня напечатать не удастся, но семь он напечатает: это был бы его личный рекорд, как говорил Фане-губастый. Вот в чем красота труда! Ты чувствуешь? Что, черт возьми, ты чувствуешь?
Чувствуешь, что тебе хочется плакать.
И ты не гордишься тем, что воскресил этот стальной механизм, что части его запели самую прекрасную из всех когда-либо звучавших песен?
Значит, у тебя нет человеческого достоинства? Ты так и не понял ничего? Пусть пройдет еще неделя, две, — ты отправишься к Филипаке и скажешь ему от всего сердца: «Ну, брат, и задали вы мне жару! Но вы были правы! Мне пошло это на пользу!»
Сказать-то легко, а вот сделать каково?!
Подумать только — «кляча»! Храпит, как жеребец. Тихонько, золотце, тихонько, а то полетит какой-нибудь винт, и весь тираж пойдет к черту. Стой!
Глаза накладчицы испытующе смотрят на него.
— Правда, что эта машина до сих пор не работала?
— Правда.
— А что с ней было?
— Да черт ее знает, что с ней было!
Она вроде него. Сломалась. С человеком, и с тем этакое случается, не то что с такой рухлядью…
Надо будет попросить лестницу и вымыть лампочку. Нет, лучше сказать им, чтобы повесили такую трубку, похожую на кишку, — как ее, черт подери, называют, — флуоресцирующая, что ли! Надо же, как говорится, начинать жить по-современному. Девушке он прикажет подмести, убрать рабочее место. Вот здесь, сзади, есть окно. Оно давно не открывалось. А ну-ка попробуем: надо немного освежиться!
Он спустился по железным ступенькам и толкнул разбухшие рамы. Сверху упала замазка.
— Уф, как хорошо!
Небо расчистилось. Солнце позолотило листья клена. К вечеру они устелют весь подметенный двор. На другой стороне улицы тоже открылось окно; на мгновение стекло сверкнуло, как зеркало. Антоникэ закрыл глаза, и ему захотелось чихнуть. Он повернулся лицом к цеху, прислушиваясь к грохоту машин, ритмичному постукиванию поршней, — веселому шуму утренней работы, шуму, к которому он так привык; он вдыхал запах машин, запах масла, но глаза его и слух были прикованы к «кляче».
Читать дальше