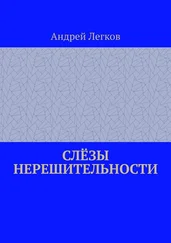Когда открылись двери лифта, я проскандировал:
— Больше абортов! Больше разводов!
Алиса вытянулась по стойке «смирно», бодро отсалютовала, едва не зацепившись локтем за косяк, и, внезапно поникнув, закрыла за мной дверь. У меня перед глазами все еще стояли ее полосатые пижамные штаны и заношенная футболка. Что она делает целыми днями? Что она станет делать сегодня? Возможно, почитает, потом сходит в университет, проведет занятия, вернется и снова будет читать или писать до поздней ночи, потом примет мелатонин и провалится в глухой, не приносящий отдохновения сон.
Выйдя от Алисы, я припустил в сторону офиса. Утренний воздух холодил руки, как недоученный параграф; в косых лучах завис запах карандашной стружки; проанализированные чувства улеглись каждое на свою полочку. Бодрящие и довольно положительные ощущения отравляла тревожность школьника со стажем: каждый учебный год оттачивает его чутье, натиск осени он встречает во всеоружии, он морально готов к неизбежному соперничеству, экзаменам, провалам, конфликтам. Осенние предчувствия не притупляются и после окончания школы: до сих пор я меряю жизнь не годами, а отрезками в девять месяцев с передышкой в три месяца; до сих пор осенью хожу на работу с ощущением, которого слова «в этом году должно случиться что-то грандиозное» не раскрывают, как троечное сочинение не раскрывает идей какого-нибудь великого гуманиста. Сегодня предчувствие казалось неоспоримым, как статистические данные, но от этого ничуть не более определенным; именно от него, от предчувствия, а вовсе не от утренней прохлады, меня потряхивало и даже, я бы сказал, колбасило.
Возможно, не всем читателям нравится, что в книге такое количество описаний пробуждения. Однако недовольным надо признать, что пробуждение — очень важная, хотя и недооцененная, часть жизни — даже если оно не завершено. Так вот, после второй ночи, проведенной в сельве, и на одиннадцатый день с момента приема «абулиникса» я проснулся от ощущения чего-то хорошего и открыл глаза навстречу утру с готовностью малыша, крепко помнящего, что сегодня наконец-то он может заглянуть под елку.
И что же я увидел, открыв глаза? Бриджид, лежащую в гамаке под москитной сеткой. Она лежала на спине, запрокинув голову и поместив сцепленные руки (насколько можно было судить по очертаниям) между ног. Веки ее трепетали — впрочем, возможно, то была игра света, проникавшего сквозь ячейки москитной сетки и дрожащего на ее правильном милом лице с высокими скулами — заметно, кстати сказать, посмуглевшем за последние дни.
Я надел свою любимую футболку, мягкую от многочисленных стирок, с надписью «ЗАРЯЖАЙ МОЗГИ — ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ», выбрался из-под москитной сетки, натянул резиновые сапоги и не без труда извлек из рюкзака потрепанное, с загнутыми уголками «Применение свободы». Я стал в луче света, где четче видны были клубы пара, поднимавшиеся, точно в сауне, и, пролистав несколько покоробившихся от сырости страниц, нашел свой любимый отрывок, дважды обведенный карандашом:
Когда мы наконец добились критического ощущения уверенности относительно сущности мировой просьбы [die Weltbitte], мы тотчас поняли, что являлось для нас самой большой опасностью, по крайней мере до сих пор. Мы стояли посреди леса, изо всех сил прислушиваясь, но, к вящему своему разочарованию, не различали других звуков, кроме шума ветра в листве. Какой заманчивой представлялась нам перспектива выделить хотя бы один членораздельный звук!.. Вместо этого мы вынуждены были ждать — ждать мировой просьбы. Мы проявляли неслыханное — и мучительное — терпение; мы не поддавались на провокации сознания, готового к слуховой галлюцинации. А теперь, достигнув наконец запоздалой уверенности, мы поняли, что лишь благодаря терпению с честью миновали переломный момент. Если бы мы приняли его за Тот Самый момент, это означало бы крушение всех наших надежд — и бессрочное изгнание.
Поистине велик философ, способный измыслить такой бред!
После завтрака я послушно и не теряя оптимизма плелся за Бриджид и Эдвином сквозь сумрак сельвы, пульсирующий, словно зрачок. Ни один листок не шевелился, будто сельва затаила дыхание. Эдвин между тем выбирал дорогу так, чтобы оставаться в пределах досягаемости от хорошо заметной широкой тропы. Подлесок редел, зато кроны деревьев поднимались все выше и делались все гуще; пространства прибавлялось, клаустрофобия отступала. В то же время становилось жарче и мокрее. Сельва словно вытягивалась в высоту, я чувствовал себя как на дне колодца.
Читать дальше

![Фредерик Пол - Эра осторожности [Эпоха нерешительности; Век нерешительности]](/books/87561/frederik-pol-era-ostorozhnosti-epoha-nereshitelnos-thumb.webp)



![Мелани Бенджамин - Госпожа отеля «Ритц» [litres]](/books/384861/melani-bendzhamin-gospozha-otelya-ritc-litres-thumb.webp)