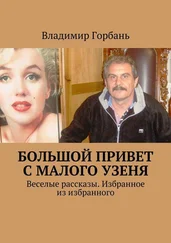— Закрыл, потому как неприятностей опасался, не хотел, чтоб тебе шею намылили эти, шефы твои. Замял историю с колоколом, полоумной, поди, меня объявил, что, мол, с нее взять, раз свихнулась… А Эмиль тут ни при чем. Зачем ты врешь, будто все ради Эмиля делаешь? Благодарил ты меня, ручку целовал, думал, последую я твоему совету, дома за закрытыми ставнями сидеть стану, а советчиком ты был не мне одной, и доктору, и другим, оттого надеялся, что сойдет тебе все с рук. А я взяла да и зазвонила в колокол.
— Зазвонила, чтобы за Эмиля мне отомстить? За то, что у тебя с ним было?
— Нет, не мстила я. В колокола бьют по душе усопшего, в деревне — покойник, и деревня эта не опустелая, не безлюдная. Нет, нет, не мстила я, так велит обычай народа нашего.
— Может, и не мстила. Но и не обряд вершила. Ты, барышня, девушка умная, на бога, и загробную жизнь, и россказни про летающие души тебе начхать, а свечки ты зажгла мертвому сербу, чтобы мне насолить, мне и этим, а «тот свет» и обычаи тут — сбоку припека.
— Таковы верования края отчего, господин Костайке, так уж заведено на нашей земле, и тебе не к чему дознаваться, верю я в бога или нет. Землю и людей привечать надо, земля людей породила, в землю они и уйдут. Смерть есть смерть, в друзьях у нее никто не ходит. Серб умер без свечи, темной смертью. Пускай хоть погребен будет со свечами засветленными. Негоже нам позорить свой род, господин Костайке. Катарина как-то золотые слова сказала: «Кто не даст гроша на поминки, от того не жди и полтинки».
— Бог с ней, с твоей Катариной!
— Как бы не так, господин Костайке! Поутру была я будто с похмелья, будто лихорадка меня трепала — так бурлило что-то во мне, точно помутневший Дунай, и в голове-то все спуталось, точно солнце погасло над моим домом, точно умом-разумом я повредилась, сама не знала, что со мной. Теперь-то я знаю: никогда ты не назовешь меня «барышней», ругмя ругать станешь.
— Я, барышня?
— Да, ты, потому что забоишься меня, потому что не желаю я тебя слушаться, нисколько не желаю. Я это твердо знала, еще когда первую свечу сербу затеплила. Знала — не послушаюсь я тебя. Оттого была как ошалелая… Мертвому свечу я зажгла. Чтобы возгорела свеча, чтоб воссияло сияние, ибо человек из света сотворен, пресветлого, неизбывного. А ты убил его, ты и твои люди, и человек с гантелями, убили вы его, убили. Так почему ж ты боишься его? Почему? Он мертв. А не боишься, зачем за мной по пятам ходишь? Не страшно тебе — так будет страшно! Я положу ему цветы в ноги. Я найду людей, чтобы похоронить его.
— Не найдешь, — усмехнулся Костайке, — и не суетись, барышня, никто тебе монумент за твои глупости не поставит. Ты даже не знаешь, кто этот мертвец, какой на нем крест нательный. Он тебе не сродственник, не полюбовник, нервы у тебя расходились, нервы, барышня. — Костайке наклонился, сорвал красный мак, росший на обочине дороги, что бежала вдоль Дуная, и воткнул его в нагрудный карман пиджака.
— Я пойду к Стойковичу…
— Иди куда хочешь… Ничего ты не добьешься, только себе же хуже сделаешь. Попустительствовать тебе без конца я не могу, прикрывать тебя и от этих и от других, кого совсем в расчет не берешь. Я-то тебя понимаю… А вот они, твои односельчане, про них ты подумала? У одних родня на сербщине, хоть сами они и румыны, другие связаны с партизанами — и не только с сербскими, у нас и свои партизаны не перевелись еще, точно тебе говорю…
— Все-то ты знаешь.
— Правильно. Под Семеником партизаны-румыны были, а может, и сейчас есть… Связь они поддерживали с, теми, с сербами… Нынче, я так думаю, поприжали их всех. Меры приняты, барышня. Нам-то что, вот мне, к примеру, терять нечего, а эти, как ты их называешь, многовато потеряли, партизаны порядком ихнего добра в железный лом обратили. А эти не любят, когда им на хвост наступают, ясно? Так что поостерегись… Я вправе выговаривать тебе, зря смеешься, да-да, вправе. Выходки твои сумасбродные не нужны ни этим, ни нашенским, деревенским… Анастасия — позволь мне, барышня, называть тебя как раньше, попросту Анастасией, — ты здесь как бельмо на глазу, пострашнее сербов будешь, ненавидят люди тебя, опасаются — и верно делают: вдруг эти обозлятся через тебя на всю деревню? Непоправимый урон односельчанам причинить можешь, вот те крест. Одумайся! Люди притаились по дворам, не из страха притаились, схоронились в ненависти к тебе, ты можешь накликать на них такую беду, что покойнички из гробов встанут. Не встревай, куда не надо, пускай все своим чередом идет, не нарушай заведенный порядок. Зря все, кому поможешь-то? Тебе в этом какая корысть? Никакой…
Читать дальше



![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)