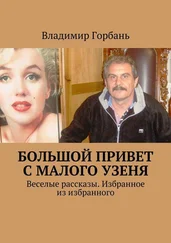— Он напал на наш край.
— Ты хочешь, чтобы воронье выклевало ему глаза, чтобы его растерзали голодные псы? Ты на мир по-чудному глядишь, под себя его подлаживаешь, — сказала она, взглянув на него в упор.
Костайке покачивался на носках, тяжело дышал, лицо его позеленело. Глаза косили — один направо, другой налево, а так как они были еще и разноцветные, то совсем сбивали с толку, если долго смотреть в них. Он облизывал пересохшие губы, хотел что-то ответить, но словно не решался.
— Я к Стойковичу не пойду, — выдавил он из себя через силу.
Придя на развилку дорог, Анастасия затеплила мертвому сербу еще две свечи. Прежние две сгорели до половины. Ветра не было, и он лежал в ровном мерцании свечей. На крышах домов, жестяные, корежились от жары петухи, с них осыпалась ржавчина. Короткие, не подобранные под платок волосы Анастасии растрепались. Бусы и серьги, подаренные ей когда-то Катариной, она забыла в горнице на столе. «Плачем по покойнику никто не зайдется, слезами землю не оросит». Сиротливо лежал он на дорожной развилке, глаза прикрыты Анастасииным белым платком; сирым, одиноким настиг его смертный час.
Анастасия стояла и разглядывала высокие хоромы Стойковича, новые, из небеленого красного кирпича. Петухов на островерхой крыше не было. Двери высокие, узкие, под стать хозяину, чтобы ему удобно было сновать взад-вперед. Росту он двухметрового, а то и лишку будет. Согнувшись над стойкой, корчмарь наливал вино и был похож на резиновый шланг для винных бочек, воткнутый одним концом в пол, другим в стаканы. Худой, долговязый Стойкович двигался сноровисто, расторопно, будто был без костей, из одних позвонков и мускулов. Прислонившись к забору, Анастасия ждала, когда он кончит подавать гостям вино. Играл граммофон с раструбом, пел Завайдок. Занятый своими делами, Стойкович не замечал ее. Человек с гантелями, который по утрам делал зарядку на школьном дворе, сидел во главе столика. Был он белобрысый, гладко причесанный на косой пробор, голубоглазый. Затылок у Стойковича жирный, набрякший, словно туда переместился весь мозг, а может, то была опухоль или мозжечок был больше мозга, кто знает. Сидящие за столиком изредка поглядывали на Анастасию, как на жердь в заборе, их не касалось, жила она на белом свете или нет. Ее, Анастасию, это не злило, а лишь вызывало улыбку. Стало быть, они заметили ее, что она там, стоит у забора, что пришла не напрасно. «Видать, думают, попрошайничать я пришла».
— Не бойтесь, не стану я попрошайничать, — сказала она им вслух, но они не услышали или не захотели услышать.
Корчмарь хохотал во все горло, так что его вставная челюсть сверкала белизной на солнце. Завайдок пел чувствительные романсы.
— Дядюшка Стойкович, — потянула она его за рукав, — не знаю, может, ты уже знаешь… Я хочу тебе сказать… слышишь, ты слушаешь меня? — говорила Анастасия, когда он спускался в погреб за вином. — Они приволокли его на развилку и бросили там, чтобы он сгнил непогребенный, чтобы никто не смел подойти к нему, в могилу обрядить. — Когда он нагнулся над бочкой, держа резиновый шланг в руке, чтобы нацедить вина, Анастасия схватила его за плечо и затрясла изо всех сил. — Чтобы никто не посмел хоронить его, от страха не посмел, что и с ним случится такое же, понимаешь? Кто подойдет к нему, не побоится глянуть хоть разочек, значит, из ихних он, так мнят себе эти и Костайке. Эти приволокли его туда в назидание: ослушаетесь, мол, нас, всех до единого перестреляем, надо всеми покуражимся, ясно, дядюшка Стойкович?
Хозяин кабачка даже головы не повернул в ее сторону.
— Не бойся меня, дядюшка Стойкович, я тебя не выдам, зачем мне тебя выдавать… Здесь, в погребе, нас никто не услышит, а и услыхал бы, невелика беда, похоронить его надобно.
Продолжая хлопотать возле бочек, Стойкович будто и не слышал ее, будто у него лопнули барабанные перепонки.
— Ты не веришь мне? — взглянула на него Анастасия.
Он разинул рот и нацедил вина прямо в глотку. Когда Стойкович открывал рот, обнажалась такая большая вставная челюсть, что он, казалось, мог проглотить целого барашка. Наполнив оплетенную бутыль вином, корчмарь вылез из погреба, глухой ко всему, безучастный. Подлил красного вина в стаканы пирующих за столиками, чокнулся с ними, рассмеявшись чему-то, уселся на плетеный стул под шелковицей и закрыл глаза.
— Напрасно ты не доверяешь мне, дядюшка Стойкович, не пойдешь со мной, так я пойду одна, — продолжала уговаривать его Анастасия, но он уже вовсю храпел. Тяжелый летний сон сморил его, глубокий, словно борозды распаханного поля.
Читать дальше



![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)