И так, и эдак пыталась Старуха, вместе с мужем, поднять бабушку — та лишь истошно вопила, оглушая вконец обессилевшую и пришедшую в отчаяние Старуху. Так и осталась бабушка лежать на голом деревянном полу комнаты, превратившейся затем в мертвецкую.
Скорая помощь, приехавшая по вызову Старухи, обнаружив забытые в комнате игрушки дочери, отказалась забрать бабушку в дом инвалидов, сделав правильный вывод, что «есть, кому ухаживать». Напрасно Старуха бегала по разным инстанциям, собирая какие-то справки и выбивая бабушке койку то в доме инвалидов, то в доме престарелых — бабушка никого не интересовала, равно как и сама Старуха, хоть та и пыталась привлечь внимание Государства к своей персоне. Бесполезно. Государственный механизм безответно крутился-вертелся, не обращая на Старуху и бабушку ни малейшего внимания.
Между тем, бабушка начала гнить, оставаясь при этом живой. День за днем она истошно вопила, то звала на помощь, то просила пить. Старуха, боясь сойти с ума, то есть потерять все бразды правления, перестала заходить к ней. Но вот однажды крики прекратились, в комнате наступила долгожданная мертвецкая тишина. Бабушка умерла, поглощенная червями.
Маленькая дочь Старухи перешла в ведение старой аристократки Зверевой, доживавшей свой век в соседней комнате, но пришел и ее черед. Зверева умирала от старости, постепенно слабея. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще, прикладывалась она к дивану, что алкоголик — к бутылке, пока, в конце концов, не слегла окончательно и бесповоротно.
Радио начинало свою звуковую деятельность с шести утра гимновой песней «Союз нерушимый…», а заканчивало — в полночь, тоже гимновой песней «Союз нерушимый…». В промежутке между исполнением гимна радио сообщало «вести с полей», «пионерскую зорьку», работало няней, в рабочий полдень горланило что есть мочи «Позвони мне, позвони…» или, высоко и тоненько, «Нас утро встречает прохладой…», словно комару-мутанту приставили гигантский микрофон, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннеса, а не то озабоченно вопрошало «Как тебе сейчас живется, вешняя моя?» — этаким книжным прилежником, не заботясь об ответах «вешней» или «вечной» — Старуха порой не различала — выговаривавшим четко каждое слово русского языка, выдавая тем самым элегантного иностранца — не шпиона ли? Вот и дочери в школе время от времени напоминали о «шпионах», которые особенно расплодились и «внедрились» во время Олимпиады — будьте начеку, дети, не верьте даже неграм!
Но радио спешило дальше и развлекало умирающую Звереву каким-нибудь радиоспектаклем из жизни загнивающего Запада или дружественного, польского, к примеру, соседа — «Проснись и пой, Проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз — Не выпускать улыбку из открытых глаз, Пускай капризен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой, Пой засыпая, Пой во сне, Проснись и пой». Но радио не останавливалось и на этом, и вдруг впадало в тоску-печаль и ностальгию, разражаясь «Ямщик, не гони лошадей..» или «Гори, гори, моя звезда…». При звуках этого романса у Старухи, готовой растерзать, то есть добить, умирающую Звереву, на глаза неожиданно наворачивались слезы или, что равносильно, комок подступал к горлу — она устало опускалась на деревянный «венский» стул, доставшийся «по наследству» при дележе имущества между соседями по коммуналке после смерти бесхозной старой девы, до революции служившей горничной в аристократическом семействе, а после оной, наряду с другими горничными и кухарками, сделавшейся полновластной хозяйкой имущества, равно как тел и душ, своих хозяев.
Старуха опускалась на стул, хозяйкой которого теперь была она, и начинала всхлипывать, словно дитя, напрасно ища носовой платок — она попросту не видела его, и ничего, и никого не видела за пеленой слез и воспоминаний, за косящим на бок, точно Пизанская башня, силуэтом бабушки, которая частенько, вечерами, сидя у окна, выходившего на оживленную, освещенную навесными фонарями улицу со скрежещущими машинами и торопливыми пешеходами, тихонько напевала «Гори, гори, моя звезда, Звезда любви, приветная, Ты у меня одна заветная, Другой не будет никогда…». О чем думала бабушка, напевая этот романс, помимо слов романса? Не о своей ли заветной «звезде» — внучке? Теперь же внучка, всякий раз слыша эти слова и, особенно, от обрусевшей полячки Герман, думала о бабушке, урбанизированной православной крестьянке, свидетельнице, очевидице, оплакивательнице взрыва Храма Христа Спасителя, рывшей противотанковые окопы и дежурившей на крышах во время бомбежек города в период Великой Отечественной войны, отчего и парализованной впоследствии. «Заслужила ли бабушка такой кошмарный конец?» — печально, сентиментально, меланхолично размышляла внучка.
Читать дальше

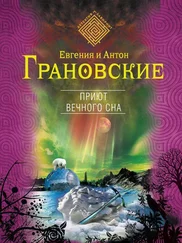
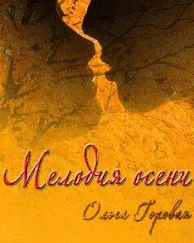


![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)






