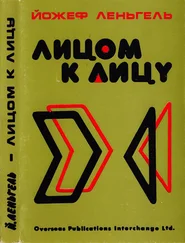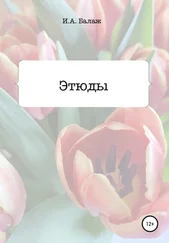— Это и есть море?
— А чего же еще? Оно и есть. Сейчас где-нибудь поставлю машину.
Он медленно завернул на стоянку. Нашарил в кармане бумажку, на которой был записан адрес.
— Попробую узнать, где этот дом… хотя он, стало быть, где-то рядом. Винце так объяснил.
Женщина молчала. Она опустила стекло. Всматривалась в море, не слыша его гула.
— Вот эта улица, напротив, и рядом угловой дом. Винце все точно растолковал.
Женщина по-прежнему сидела неподвижно, слегка сощурив глаза, вглядываясь в бескрайнюю водную гладь. Она искала чаек.
Машина остановилась перед домом.
— Здесь он. Приехали! — Мужчина смущенно улыбнулся. Добрались. Вот они и на месте. Вдвоем. Ему бы сказать: «Этушка, милая моя Этушка! Ты видишь море! Думала ли ты об этом когда-нибудь!» И почти слышит, как они оба смеются! И почти чувствует: они невольно берутся за руки и сжимают их до боли, так, что слезы выступают на глазах.
Имре бросает взгляд на жену. На губах у него улыбка. Затем открывает дверцу и выбирается из машины. И только теперь ощущает боль во всем теле. В пояснице, ногах, занемевших руках.
— Ну, вылезай же, — мягко говорит он.
Женщина покачивает головой. И по-прежнему зачарованно смотрит в сторону моря.
— Тебе что, плохо?
Она ничего не отвечает. Рядом с машиной, прямо с асфальта, взмывает вверх чайка и скользит в сторону бескрайней дымки над морем.
— Она не белая, а серая.
— Что ты говоришь? — спрашивает нетерпеливо мужчина.
— Ничего, ничего. — И она тоже открывает дверцу.
Перевод С. Фадеева.
Родился я в 1912 году, в Будапеште. Отец мой был аптекарем, мать — превосходной домохозяйкой, сохранившей это умение до конца дней своих… Сочинитель, говорите? Воля ваша, но уже в самом этом слове есть нечто подозрительное. Немало мы их повидали на своем веку, сочинителей этих. Забежит, бывало, этакий щелкопер в аптеку за пилюлями, и покупке-то всей — грош цена, а он и ту норовит в долг забрать… Ладно, сказал отец, хочешь стать писателем — пиши. Но прежде хотелось бы ему краем глаза взглянуть на мой диплом провизора.
Сказано — сделано, через четыре года отец держал в руках диплом, подтверждающий, что его сын стал провизором. Для меня открылась пора радужных мечтаний, но тут последовало новое условие отца: чтобы встать на ноги, мне нужен второй диплом — инженера-химика. И я стал инженером-химиком — в обмен на пять лет своей жизни. Едва успел увидеть свет тощенький сборничек моих рассказов, как началась война.
Между мною и писательским столом всегда оказывалась какая-нибудь помеха, и, чтобы обойти очередное препятствие, требовалось, как правило, лет пять: война, военный плен… Откладывать было некуда, и я начал писать. Я писал романы, рассказы, хватался за пьесы, брался за киносценарии. Поначалу все, что выходило из-под моего пера, получалось в этакой легкой, гротескной манере, потом манера моя год от года все утяжелялась и утяжелялась, пока не забуксовала окончательно под собственной тяжестью.
И наконец в зрелую пору жизни, когда юные годы стали для меня далеким прошлым, мне все же удалось возродить в себе многое из давних, юношеских склонностей моей натуры: склонность к юмору, гротеску, к отображению комического и трагикомического. В этот период были опубликованы мои короткие повести и короткие рассказы, более известные как «рассказы-минутки», потому что некоторые из них укладывались строчек в десять, а иные и вовсе выходили короче вполовину. Добавлю еще, что первой моей пьесой, шагнувшей на театральную сцену, была «Семья Тотов».
По дороге с работы он собирался сделать пересадку у «Астории», когда увидел скопление людей у спуска в метро. Поначалу он решил, что, наверное, опрокинулся автобус. Он заторопился, ускорил шаги, — но нет, слава богу, обошлось без катастрофы. Не успел он приблизиться к толпе вплотную, как навстречу ему кинулся незнакомый бородатый молодой человек в очках и с микрофоном наизготове.
— Тысяча извинений, можно вас на минутку? Мы из кинохроники, готовим репортаж-интервью с уличными прохожими. Прошу вас подойти к камере.
Мечери приосанился, встал, как ему было велено, застегнул пиджак. Толпа зевак теперь сгрудилась вокруг него, а киношники направили на него «юпитеры»; яркий свет ослепил его, и Мечери невольно сощурился и заморгал глазами. Мечери знал, что нельзя моргать, когда тебя снимают, и пытался сдержаться, но это ему не всегда удавалось.
Читать дальше