Через неделю, чтобы пойти в отношениях дальше, чтобы резко продвинуть их, перед свиданием решил дернуть. Дерябнуть, так сказать. Грамм сто. Ну, двести. Водки. Не для храбрости – для уверенности. Деньги были. Стёпу получил два дня назад. Не пропито ни рубля. Целая. В низкопотолочной забегаловке взял двести, бутылку ситро и сохлый бутерброд с рыбкой. Встал к мраморному столику с каким-то уже осатанелым полностью мужиком. Выглотал весь стакан сразу. Пока жевал засохшую с хлебцем рыбку – начал отгораживаться от действительности сразу загудевшей, блаженно-полупьяной кисеей. Однако глаза все видели преувеличенно четко. Зажглись, загорелись. Как в фонаре фитиля. Продолжал жевать. Как бы закусывать. Потом, не торопясь, раскуривал папиросу. От буфета ему заорали. Тогда запустил папиросу в рукав. Отсасывал оттуда, как из баллона. Время здесь, в забегаловке, было остановлено, не бежало, никуда не текло. Даже вот ни капельки не просачивалось наружу. Стояло в виде пара в бане. Плавали все блаженно в нем – и никуда. Сосед Серова был пьян, как слива. Как сливовое эскимо на палке. Серов поглядывал на шапку его. Кроличья шапка на мраморной столешнице напоминала гнездо. Серову хотелось втихаря вылить туда ситро из бутылки. Чтобы, надев шапку, сосед начал таять. Словно с угрозой, сосед спросил: «Сдвоим?» Серов глазами показал ему на его стакан, просохший всего граммов на сто. «Это – слону дробина!» – сказал сосед. В доказательство кинул «дробину» в пасть. Стакан – поставил. И снова поднял угрюмые глаза на Серова: «Сдвоим?» Серов молчал. Улыбчиво ждал пачки. Плюхи. Сосед посопел, вырвал у Серова его стакан. Пустой. Цапнул свой. Тоже пустой. Развернулся. На сто восемьдесят. Пошагал к буфетной стойке, стаканами словно подталкиваясь. Как небывалыми лыжными палками. Менял обличья быстро, фантастично. Со спины, в шапке, уже походил на гриб с чернильным затылком. От стойки же его отмахивали, будто овода. И он отстранялся от пухлых рук буфетчицы – как от дымных. Орал, что «сдваивает». Ссылался на Серова. Сдвойщика. Который плотит, лярва! Однако Серов по-за столиками уже крался к двери. Хихикал. Будто юненький здоровенький негодяйчик, споивший развалюху-алкаша.
Круглые фонари по исетскому мосту сидели на столбиках, как разъевшиеся коты с радужными усами. Вольная папироса Серова шла, фосфорные выдергивала из висящей изморози ленты. Не дойдя полквартала до главпочтамта… ноги вдруг сами повернули и повели Серова через дорогу. К боковой притемненной улице. Серов несколько удивился этому обстоятельству. Но и сразу хитренько обрадовался. Возразил, зная кому: «А я еще выпью!»
В подвальной пельменной сидел с налитым стаканом в обнимку. Уксус колко метался в графине, как звездочет. Была на столе сказка…
На месте, возле светящегося гастронома на Броде, стоял и покуривал. Подсчитывал, сколько он мог бы на стипендию купить плавленых сырков «Дружба». Которые вон они, на витрине стоят. Пирамидой… Пожалуй, можно было бы всю пирамиду забрать. А Никулькова все не шла. Задерживалась. Ладно. Все-таки хорошо, что можешь вот зайти в магазин и вынести. Успокаивает… Внезапно увидел Евгению на трамвайной остановке. Уже спиной к Броду, к свиданию! Как так? Пошел. Совался к ней с разных сторон, посмеиваясь добродушно. Да ерунда! Да слону дробина! Похлопывал по плечу, укрощал. Она швырнула ему какие-то бумажки. Ну, нагнулся. А, билеты! На 20.30! Да ерунда! Да еще успеем! Пытался развязно взять под руку. Ну, чтоб ощутить пушистое гнездо. Семейное. Руку вырвала. Тогда довольно громко спел на остановке песню. Наверняка никому не известную:
Бырось серыдитыся, М-маша-а!
Э-песыню лучше спо-ой!
Мы с тобою, М-маша-а!
Э-встретились зимо-о-о-ой!..
Глядя на него с отвращением – Никулькова прыгнула в трамвай. И трамвай со скрежетом повел колесами, преодолевая поворот, как серпом по… И умчался – возмущенный в узкой улице…
Анекдот Серов рассказывал себе возле потухшей двери магазинчика: «И не думай, и не гадай! И не выйдет ничего!» А потом – когда все произошло: «Ну, уж это просто ни к чему-у!..» Над головой его щелкало красненькое словечко: «Табак». Название магазинчика. Вывеска. Вроде бы по ней бегали и с треском били какого-то красного мотылька… Срочно начал ходить по Броду. Приставать к девчонкам. На знакомство. От него бежали. Один раз чуть не заехали. Какой-то здоровенный парень. Но-но! Упал даже на ровном месте, с достоинством отходя. Ноги выше головы. Пошел, отряхиваясь. Но-но!.. Снова пил в пельменной. Пытался будить звездочета в графине, взбалтывал. Но свет уже притушили, дергали, тащили скатерть из-под локтей, гнали на улицу. По ночной, в сусально-белых деревьях улице с затонувшими фонарями – плыл, как небожитель. Низко раскачиваясь, блаженно пролезал и пролезал к ее черному космосу вдали, к ее сужающейся там вдали черноте… Как пришел к Офицеру в дом – не помнил. Сам ли открывал ключом дверь, ему ли открывали – провал, чернота. В майке и трусах сидел, поматывался на краю тахты. Курил. Рассматривал под ногами у себя сопливый паркет. Проверяя, отдирал от него голые липкие ступни. То одну ступню, то другую. Так, наверное, фальшивомонетчики доводят до ума по ночам свои отпечатанные деньги. Потом задавил окурок в пепельнице и увалился к темной стенке. Ночью никак не мог подняться, встать с тахты. Похмельный язык был во рту как сухая вехотка. Воды, – сипел, – воды-ы! С трудом Серов сел. В залуненной столовой настенные часы Офицера щебетали, как большой птичник. Пять или шесть их было. Помнили все юбилеи Офицера. Все до единого. Серов покачался перед ними, прошел и долго глотал из-под крана на кухне воду. Снова ненадолго окунулся в механическое жаркое щебетанье, прежде чем отсечь его своей дверью. Кинул себя на тахту, опять к черной, ударяющей по закрытым глазам тишине.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


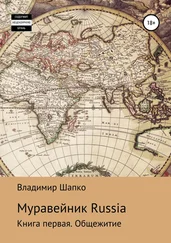

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




