Итак. Дом, к которому Серов стоял теперь спиной, принадлежал купцу Дранкину Федору. До революции, понятно. Дед же Никульковой был старый большевик. С 905-го года еще. Зиновием Никульковым звался. Жил вон в той старой халупе. (Серову показали халупу. Через дорогу она находилась. Наискосок.) Ладно, дальше. Зиновейка и Федька росли вместе. (Вот она первая фраза! Вот он зачин романа!) У Зиновейки отец работал в железнодорожном депо. Простым рабочим. Однако тоже был старый большевик. Маленький Зиновейка помогал отцу раскидывать листовки. (Прокламации.) А Федька маленький в это время стоял с отцом своим, толстопузым купцом. За прилавком стоял. Всячески помогал тому набивать мошну. Пить кровь из пролетариата. Вон он, магазин-то был. На углу. Ну, понятно, Зиновейка и Федька жутко дрались. Непримиримые классовые враги. Время шло. Заматерев, Федька Дранкин сам встал за прилавок. А Зиновейка Никульков начал упорно водить демонстрации. («Сме-ло, това-рищи, в но-о-гу!») Шел 1917-й год. «Я вернусь, Зиновейка! Берегись меня, Федьки! – вытаскиваемый вот из этого дома, кричал Федька Дранкин. Уже со связанными руками, заваливаемый на телегу: – Я вернусь! Берегись, Зиновейка!» – «Давай, давай», – добродушно посмеивался Зиновейка в кожане, по-хозяйски освобождая помещение от кровопивца. Труженик просто он, Зиновейка. Строитель новой жизни. С маузером под мышкой, как просто с поленом. «Давай, давай…» За тюлем, наверное, хлопали в ладоши, бесновались. Так запомнила всё! Так знает! Слово в слово! Роман продолжался. Набирал силу. Теперь шла глава о бабушке. О верной подруге старого большевика Зиновея Никулькова. Бабку все домашние считали духарной. Звали Кулькой. (От Акулины.) Кулька люто ревновала своего Зиновейку.
Хотя родила ему уже четверых. Одного за другим. Рядок из детишек получился. Мал мала. Был однажды случай. На дне рождения Кульки. Гости перепились. В этом самом доме. В столовой. Ну, где мы встречали. (Серов понял.) Дальше – уже сама Кулька словно бы говорила: «Утром просыпаюсь на кровати – одна. Что такое! Гости – кто где. Валяются. А мой – Зиновей – лежит – и ручку Катьке Поросовой под подол пустил. И как кот расплывается весь во сне. Мурлычет… Как кинулась я к нему, да как вцепилась в мусатку (а он рябенький у меня был, рябенький, да), как вцепилась в мусатку – так кровь из рябинок и брызнула. Фонтанчиками!» Вот так Кулька! Серов невольно обернулся. За тюлем наверняка нахмурились. Не одобрили такую вольность рассказчицы. Не одобрили. Перебор. Лишнее. Ни к чему об этом. Пьянство. Драки. Все же старый большевик. Да еще почти постороннему. Хотели даже постучать в окно. Но – передумали.
А Никулькова все говорила. Не на шутку разошлась Никулькова. Достойная бабки Кульки. А время шло, время уходило. Надо было действовать начинать. Свидание ведь все же. Многое было обещано. Намёкнуто. Серову хотелось Никулькову под пушистую руку взять. Но стояли ведь. Тем более под наблюдением. Стоя-то под руку не берут. На ходу ведь надо. Ритуал дурацкий. Тогда – как стронуть? Чтобы на ходу снова была. Куда вести? Задачка… Вздрогнув, Серов по лицу Никульковой понял, что из-за тюля был дан ей знак. Был дан приказ. Как певцу какому степному. Акыну. Мол, кончай балаган. Бешбармак стынет. И она – послушная, дисциплинированная – сразу песню свернула, сразу стала прощаться. И никакие уговоры не помогли. И через минуту Серов уже шел к остановке, не понимая: как так?
Поцеловать Никулькову Серов смог лишь на третий вечер. За историческим домом ее. Оттащив от окон. Из поля зрения тех, кто засел за тюлем… Губы Никульковой были как податливые звери. Она закрыла глаза и зачем-то встала на носочки. Хотя Серов был опять ниже. Как с Паловой. Пришлось ему чуть не подпрыгивать. Однако он хотел и во второй раз поцеловать, притом – глодая, как в кинофильме, но Евгения открыла глаза и словно из страшного сна вернулась, во все глаза вытаращившись на него, Серова. И… и почти сразу ушла домой. Оставив Серова опять в жестоком недоумении: как так?!
В полнометражной квартире Офицера, где просторные потолки и длинные коридоры, где чугунные гармони Сталина из-под подоконников пыхали Африкой, лежал в самой маленькой комнатке, на тахте, не включая света, мечтательно закинув руки за голову. В раскрытой парящей форточке, как кошка, вылизывалась луна. Где-то внизу шоркали пилами мороз запоздалые пешеходы. А Серову виделось запрокинутое лицо Никульковой, ее закрытые глаза, девичьи ее губы… С тем и засыпал.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


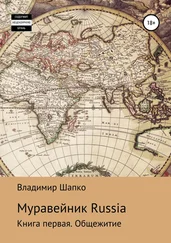

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




