Серов сидел послушно, чувствовал себя виноватым. Рядом проникновенно блестело расплюснутое лицо налима. Отпивая чай, налим дожимал и себя, и кореша по литературным мытарствам: «А вообще-то, Сережа, всё давно написано. Всё давно – банальность. Спасти литературу (ну и нас, грешных) может только свежий взгляд на банальность. Свой взгляд. Единственный. Только твой взгляд…
Бормочут: ухищрения в стилистике, оригинальничание, фиглярство!.. А дело в твоих глазах. Ты так видишь. И никто другой. Другие проходят. Мимо. Они не видят. А ты видишь. И это – твое счастье. И я не верю в муки слова. Есть радость слова. Озарение. Ты слово ждешь, и оно приходит. Конечно, это всё – о таланте. А если всё у тебя где-то на серединке да на половинку… Не надо бояться своих слов, Сережа. Примут их, нет – это десятое. Не надо бояться Зелинских. Это ороговелые. Они знают о литературе всё и ничего. Они не видят. Слепые. Они ведут разговоры только на уровне сюжета. Поступка. Мотивации. Слова они не чувствуют, не слышат. У них нет того пресловутого образного мышления. Нет своих глаз. Хотя они говорят тебе: “Море смеялось” – это образ! Им долго разжевывали эту метафору в университетах, и они сглотнули ее, искренне поверив, что только таким и может быть образ. Это их надо благодарить за то, что литература сейчас – голый серый сухостой. А ты вот пишешь: “Собака бежала прямо-боком-наперед”. Куда тебе к ним? Не примут».
Дылдов налил чаю. Себе пятый. Серову – второй. Начал теперь друга «спасать»: «Мой совет, Сережа: не обращай внимания. Неприятно это все, ранит – понимаю. Но – забудь, выкинь из головы. Они не писатели. Они – члены Союза писателей…»
Утешитель помолчал и неожиданно съехал с накатанной дороги: «А вообще-то, если здраво, плохи наши дела, Сережа. Можно сказать, безнадежны… Работать надо, Сережа. Только работать. За столом. Писать. Несмотря ни на что. Каждый день. Каждый час. А ты вот нервничать стал. Бегаешь по редакциям, доказываешь. Зачем?.. Сгоришь так, Сережа. Радость труда своего потеряешь. Не ходи к ним. Сгноят они тебя, эти зелинские…»
Дылдов застукал пальцами по столу, раздувая налимьи ноздри.
Серов смотрел в круглые голые дылдовские окошки в толстых стенах – как будто в перевернутый бинокль. Просматривалось пространство аж до глухой кирпичной стены двухэтажного дома. На противоположной стороне бульвара. Напротив… А, Лёша?.. Это наш охват? Наше зрение?..
Смотрели в бинокль оба.
16. Превращение маленького Серова в Серю Серого
…После гибели Джека под свист ремней Гинеколога (а изувеченный велосипед был только началом войны), когда к Серову пришла простая истина, что извечная боязнь подростками взрослых – это пережиток, рудимент вроде пятнадцатого там какого-то позвонка, вроде аппендицита… Серова за какие-то месяц-два вообще стало не узнать – Серов, что называется, во все тяжкие пустился. Хулиганил в школе, сбегал с уроков, двойки пошли, колы. По субботам регулярно дрался с Трубой. (С Трубниковым из 6-го «Б». Тот уже замучился с Маленьким Серовым, ничего не мог с ним поделать.) Хотя и небольшого росточка был, но из гимнастерки у него наружу к этому времени бурые, неловкие, в цыпках руки вылезли, с которыми он не знал, что делать. Подпоясываться уже приходилось, подпирая дых. Все было мало, в обтяжку, из всего вырос. Гинеколог и Дочь наседали с новой формой. Дико отбивался – словно терял кожу… Прошел мимо окон своего дома с большой сигарой в зубах. Сделав круг, снова шел. С той же сигарой. Поглядывая на окна, кидая дымные бакенбарды, усы… На попытку ремня впервые так шибанул Гинеколога крепеньким плечом, что упала ей со стены на голову его прошлая детская ванночка. Подолгу смотрел на подпольное гинекологическое кресло, закутанное брезентом. Смотрел, как смотрят на сокрытую наглухо скульптуру. Которая раскрывается, видимо, только по ночам… Однажды брезент исчез. «Скульптура» была украшена цветами… Мужественная Гинеколог теряла силы. «Ра-азбойник! В колонию! В ко-олонию!» – слезилась она подобно глыбе льда в опилках с мясокомбината, откинутая на диван. Дочь бегала, набрасывала на лоб ей мокрое полотенце, брызгалась валерьянкой в рюмку…
За какие-то полгода здорово насобачился на бильярде. Стал обколачивать даже взрослых, опытных бильярдистов. Летом играл в парковой бильярдной. Окруженный юными болельщиками, на интерес. («Сегодня Серя Серый дал Бундыжному фору два шара!») Маленький, влезал с кием на борт, распластывался. Как электричеством ударенный лягушонок – дергался: длинный шар с треском всаживался в лузу. Восьмой! Партия! Восставал почтительный гул. Бундыжный кидал деньги на сукно. Отходил, запрокидывал пиво. Скучающе Серя Серый гонял на кию мелованные ленты. В бильярдную теперь всегда входил стремительно, серьезно. За ним, шлейфуя, торопились сверстники. Из стойла выдергивал кии. К свету вскидывал. Как выстрелы. Но нет – не то. Один, второй, третий – кии летели обратно в стойло. «Шехтель!» Маркер Шехтель выносил кий. Кий Сери Серого. («Вчера Серя Серый сделал Бундыжного на двадцать». – «На двадцать пять!») Бухгалтер Бундыжный в раздумье смотрел на Серю Серого. Протягивал пиво. Бутылочное. Серя Серый игнорировал – на работе. Взбирался с кием на борт. Резко дергался. Длинный шар вспарывал лузу. Глаза Бундыжного, как глаза отца, были спокойны. Он задумчиво отсасывал из бутылки. Маркер Шехтель подставлял банки. (Командировочных.) Серя Серый и Бундыжный на двух столах их кололи. Вечером кучерявый Шехтель кучеряво смеялся. Он был туберкулезник. Заговорщицки подмигивая, он словно грел руки над скомканными десятками, пятерками, трешками, выкинутыми Серей Серым и Бундыжным к нему на столик. Отсчитывал долю Сери Серого. Серя Серый кидал ему пятерку. На молоко. Протягиваемую бутылку задумчивым Бундыжным… запрокидывал, как трубу. Шехтель поглядывал на них, все посмеивался, все грел руки над красными бумажками. И полоскал красным стекла бильярдной проваливающийся закат…
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


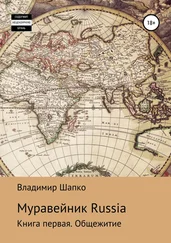

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




