Вечером Серов застал Дылдова лежащим на кровати. Лежащим вытянуто, недвижно. С тем обреченным смирением, с каким принимали раньше старики смерть. То есть поп уже был спешно вызван, уже побывал у отходящего. Соответствующая подготовка, подталкивание к могиле, к смерти уже была – так что чего еще? Не умереть теперь Дылдову было просто нельзя. Невозможно. Никак… Серов процокал донцами двух портвейнов по столу. Приглашающе. Так вытанцовывает, втыкает стаканы свои под хорошим наездником застоявшийся конь. Никакого движения на кровати. (Со стороны умирающего.) Серов помедлил. Ну, хватит дурака валять! Вставай! Дылдов тут же заговорил. Пытался объяснить. Покойник лепетал: собачонка… собачонка… на перроне… А я… а я… а меня… Серов присел на край кровати. Ну, будет, Леша, будет! Брось. Забудь. Дылдов сразу сел и заплакал. Запрятывал голову в колени, гулко, как ударяемый барабан, рыдал. А я… а меня… а у меня… Сережа!..
24. Будем зво́нки и трезвы! Будем мо-ло-ды!
Серов делал утреннюю зарядку. Косясь на жену, отжимался от пола. Двадцать шесть, двадцать семь. Манька запрыгнула ему на спину, оседлала, закачалась. Двадцать-тридцать! Пятьдеся-ат! Катька, наевшись мороженого, болела ангиной, с замотанным горлом была вся как белый кукленок, тем не менее хрипела, тоже отсчитывала. И совершенно точно: двадцать девять! Три-идцать! С нежностью чугунной плиты – припал, наконец, к ворсу паласа. Дышал, раздувался, не вмещая воздух. Девчонки бегали вокруг: упал! упал! мама! упал! Врете, не упал. Врете…
Подкидывая колени, как олень, бегал вокруг общаги в тощих трениках и тапках. Манька что-то пищала, размахивала ручонками с четырнадцатого этажа. Пока не была удернута матерью. Врете, не упал! Еще побегаем! Поборемся! Серов прыскал воздухом. С задошливостью пульверизатора, нагнетаемого черной грушкой. Врете! Олень бежал иноходью вдоль свежих мокрых утренних кустов. Высокой размашистой иноходью.
Дома сдирал перед всеми мокрую, почерневшую от пота майку. Ноги в трениках, заправленных узласто в носки, стояли, как сабли. Мы еще посмотрим – кто упал. Посмотрим. Под смех жены унес глаза дикого необъезженного коняжки. Унес в ванную. Девчонки скакали за ним до самой двери. За которую, однако, пущены не были.
После завтрака, встав на стул, потянулся, открыл антресоль. Черкаемые тараканами, белые папки лежали плотно, одна на другой, до самого верха антресоли. Начал искать нужную. Евгения ехидничала насчет домашнего питомника серовских тараканов. Лелеемой, оберегаемой зонки тараканчиков Серова. Тем более что сыпались они сейчас из зонки отчаянно, наглядно. Серов не слушал, не обращал внимания. Нашел, наконец, нужный черновик, нужную папку. Не слезая со стула, долго просматривал некоторые страницы в ней. Девчонки дергали за ноги. Евгения все о своем зудела: о роковых, о неистребимых тараканах Серова…
На территории издательства на Воровского Серов и Дылдов остановились перекурить. Будучи уже за решетчатой оградой, напротив четырехэтажного старинного здания. Серов с тоской посматривал на дубовую дверь, в которую он должен был сейчас войти. Дылдов топтался, не знал, что говорить, чем напутствовать друга.
Вышли из издательства две женщины. Одна невысокая, круглая. С загорелыми лоснящимися ногами, как рояльные балясины. Другая худенькая. С кривоватыми ножками. Раскрытые свои книжицы удерживали на ладонях, как Кораны. Читали из них друг дружке трепетно, завывая. Поэтессы , зачем-то сказал Дылдов. И добавил – оголтелые. Проходя мимо, поэтессы гадили за собой: симулякр! симулякр! ди-искурс! ди-искурс! Нахватались, кивал на них Дылдов. Как собачонки блох. Смеялся. Однако Серов, будто пропадающий ангел, всё с тоской смотрел на густые деревья.
Пошел, наконец, к двери. Пошел, в общем-то, уже приговоренный. Дылдов еле успел крикнуть: «Ни пуха». К черту!
В конференц-зале издательства, засадившись в кресла, тёпленько сидел коллектив. Коллективчик. Человек в двадцать пять-тридцать. У самой сцены лысинки проглядывали стеснительно, нежно. Попадались, впрочем, и наколоченные волосяные башни женщин.
Сам не зная, зачем это делает, ни на кого не глядя… Серов вдруг начал ходить вдоль коллектива. По проходу, сбоку. Туда и обратно. И сел. С краю ряда. Перед чьим-то затылком. Как неизвестный совершенно никому родственник. Лысинки начали недоуменно оборачиваться. «Вам что, молодой человек? Вы к кому?» Вопрос прилетел со сцены. От крупного мужчины за столом. У него на лысине был штрих. Напоминающий укрощенную молнию. «Молодой человек!» Серов застыл, будто наклав в штаны. Вскочила высокая худая женщина: «Это ко мне, Леонид Борисович!» Огибая всех, быстро шла. К Серову как будто шло много беспокойных палок. Серов был вытащен из кресла и выведен за дверь. «Вы что – не видите! – шипели ему в бестолковое ухо. – У нас производственное собрание! Про-из-вод-ственное! (Надо же! Как на заводе! На фабрике!) Ждите!
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


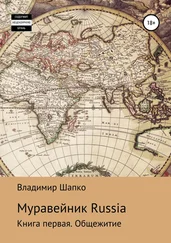

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




