Жена Евгения, на взгляд Серова, вообще стала вести себя непонятно. Когда-то (год, может быть, два назад) будучи тонкой, любящей его «лингвисткой», она говорила и даже писала (письма к подругам, к примеру) его словами, его оборотами речи. То есть тонко чувствовала нужный, правильный тон. Стиль Серова. Теперь же он с ужасом начал обнаруживать, что появились в ее лексиконе, и сразу, совсем другие слова. Такие, например, как – волос, вместо волосы. («У меня волос от этой шампуни плохой стал». Каково?!) Явно чтобы злить его, говорила вместо приготовить обед- сготовить обед. Говорила по-деревенски. (Прямо издевательство!) Вдруг непонятно откуда появились такие слова: ночнушка… шлёпки… губнушка. (Что это?! Губная гармонь, что ли?!) Или совершенно поразительный оборот (подхваченный, конечно, где-то, подхваченный, как триппер): «На фиг мне ваш график!» (Это она за столом, родным, и смотрит на Серова с мстительным превосходством, дескать-слабо тебе? Писатель?.. «Положить вермишелки ? Классик?»)
Она внимательно и много читала. И больше всего как раз художественную литературу. Тонко чувствовала все стилистические промахи авторов. И особенно, что задевало – промахи его, Серова. Находила их, вынюхивала – и тут же: «Ты-ы! “Скотч” несчастный! Куда всунул-то его?!» (Это он не удержался и в деревенский рассказ вставил новое, входящее в моду словцо – скотч) И вот после всего этого – «на фиг мне ваш график!» Это уже было явное издевательство, вызов. Серов теперь точно уверился, что коверкает она язык назло. Чтобы завести его, Серова. Взвинтить. Спровоцировать. Довести до крика. Серов скрипел зубами, но держался.
В спальне у окна Серов отвоевал себе свой столик , где он писал. По раскиданным листкам бумаги стремительно бежали мелкие буковки, крепко сцепливаясь в слова и предложения. Бежали, неслись, догоняли друг дружку, но вдруг словно проваливались в глубокий снег, исчезали. Долго ползли где-то под снегом, потом радостно выскакивали – и снова чесали. Некоторые слова, не успев толком родиться, были безжалостно порублены пером (Серов писал только чернилами, авторучкой), пронизаны длинными копьями. Другие, застыв, трусливо ждали: казнят или помилуют? Третьи были уверены вполне, что уж они-то будут вбиты свинцом навечно в респектабельные ряды книжного листа… Впрочем, какого? где? в какой типографии?.. При виде жены Серов быстро закрывал написанное. Обеими руками. Будто птица-мать гнездо с птенцами. Напряженно ждал. О! о! о! – ехидничала полуголая супруга, сдергивая со спинки кровати халат и уходя в другую комнату.
Два раза в неделю, когда в институт нужно было с обеда, завтракали одни. Часов в десять. Гороховый и Дражайшая, уже откушав, отбывали по важным своим делам. Никулькова всегда выползала в столовую в одной комбинации. Комбинашке , как она говорила. Сладостно потягивалась, выказывая из стиснутых ног золотистый треугольник. Который вздымался, казалось, к самому потолку! Серов был в тужурке. В домашней. Естественно, подаренной. Еще со свадьбы. С бортиками. Как страдающий мотылек. Ну почему, почему нужно обязательно разнагишаться?! А?! Супруга как-то томно, как-то большерото откусывала от бутерброда с маслом и сыром. Спокойно говорила, что пусть тело дышит. Не можешь – не смотри. Да у вас же в ванную не зайдешь! В ванную! Сплошные приветы от тещи висят! Голубые, розовые, зеленые! И ты такая же фитюлька! И ты! Яблоко от яблони! Супруга делала большой, тоже томный глоток чаю. Не можешь – не смотри, еще раз повторяла. Да кусок же в горло нейдет! – бросал ложку Серов. Хи-их-хих-хих! – поддавала жарку бегающая Нюрка. Приживалка. Хватая тарелки, подмигивала Женьке: ревнует! Серов вскакивал, убегал из столовой.
Однако и потом, когда она уже одевалась в институт, видя ее почему-то в одних и тех же, каких-то кроваво-колбасьевых чулках (не иначе как любимых), в бигуди по всей голове, которые смахивали на алюминиевый, роковой какой-то тотализатор, на какое-то сплошное барабанное спортлото (честное слово!), Серов смутно ощущал, что так и не наступила у него та пресловутая семейная терпимость, терпимость женатика. Терпимость ко всему этому женскому, неизбежному. Чувствовал себя подловато, но ничего с собой поделать не мог: «Ну для кого эти бигуди?! Для кого?!» «Дикарь ты, Серов… Так, вообще… Не могу же я ходить чучелом!» Серов не унимался: «А я знаю, знаю. Для мужчины вообще. (Понимаете?!) Для абстрактного, так сказать, мужчины! На всякий случай! Мало ли?» Евгения говорила, что такого дурака свет не видывал. «Ха-ха-ха! – не затыкался Серов. – “Семейные бигуди для абстрактного мужчины!” Ну… ну это же полный звездец. Прямо надо сказать. Название пьесы. Нашей дурацкой пьесы! Главы!» – «Не матерись, придурок! Где эта твоя пьеса?! Где глава?!» – «Ха-ха-ха!» Лихорадящийся Серов понимал, что глупо себя ведет, что идиотски глупо, что дурак, что правильно – придурок, – и ничего не мог с собой поделать. Не мог он видеть эту раскрытую ему, узаконенную, узаконенно-неряшливую, не влезающую в чулки, затискиваемую в трусы, в бюстгальтеры изнанку женщины! Всю эту неприглядную изнанку женского ее существования. Ее быта. Господи, неужели у всех так? Во всех семьях? Вот сейчас, пожалуйста, – стоит уже у зеркала. Пристегивает чулки к поясу. Гордо оглядывает себя. Оценивает со всех сторон. Во всех ракурсах… Серов не выдерживал, орал: «Надень халат!» – «А что?» По-прежнему оглядывает себя с еще большим удовольствием. «Да противно на твои… кровавые колбасы смотреть! Противно!» Под несколько сердитый, чеканный даже смех супруги Серов метался по комнате. Где, где, как говорится, целомудрие, где чистота? Непорочность! О чем речь, товарищи? «Семейные бигуди для абстрактного мужчины, или Полный звездец!» Вот что это такое!
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


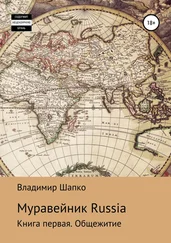

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




