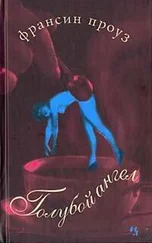— Километров за пятьдесят от нас небо затянуло тучами. И где-то там погромыхивает. Я подумал, что народу Вудстока предстоит большое купание в грязи. Помню, сказал Реймонду, как обидно будет столько лет готовиться умереть за освободительное дело ДАС, а вместо этого быть поджаренным молнией среди грязных ребятишек на лугу.
— Вы с вашими друзьями из ДАС часто бываете на этих… рейвах?
Что до этого Мейеру? Чем занимаются члены ДАС в свободное время — не его забота.
— Никогда, — говорит Нолан. — Обычно нет.
У этой истории две составляющие. Одна — правда, и ее легко рассказать. Другая не столько ложь, сколько блик, многоточие, пробел. Ты не обязан всем рассказывать все. Этот урок усваиваешь с возрастом. Нолан кое-чему научился в жизни и из курса по обузданию гнева извлек кое-что полезное: вовсе не обязательно оставлять за собой последнее слово, достреливать обойму до последнего патрона. Незачем сообщать, что Реймонд поднял его на смех, когда он сказал, что надо сваливать до грозы. Это что, Нолан боится под дождь попасть? А Реймонду что прикажешь делать с семьюдесятью дозами экса? В задний проход себе засунуть?
— Когда мы приехали, там уже миллион ребят извивались под громадными экранами — бум-бум, цветные огни мелькают. Прямо какое-то радение электрических червей. У них там громадный помост, сидят диск-жокеи, техномузыка гремит…
Маслоу говорит:
— Похоже на описание ада.
И опять в ушах у Нолана бренчит голос Реймонда. Еврей не верит ни в рай, ни в ад. Вот почему он может красть у соседей, лишь бы только покаяться один раз в году — у еврея для этого специальный день отведен.
— И что тогда произошло?
Погоди. Маслоу, что, подгоняет его? Нолан будет говорить столько времени, сколько надо.
— Реймонд соскочил. Исчез. И я думаю… Нет, подождите. Вернемся на минуту. Вы должны понять. Я тогда был другим человеком. И думал так, как сейчас не стану думать. — Правда это? Конечно, правда. Наверное. Нолан просеивал… отбирал из той ерунды, которую приходилось слышать — но что-то же отбирал . То, с чем сам уже был согласен.
— Мы понимаем, — говорит Бонни. — Вы рассказываете нам о том, как переменились.
Про это им Нолан рассказывает? Мир через перемены. Где он недавно это видел? А. Вывеска в приемной. Вот что они продают. Прекрасно. Нолан может устраивать мир через перемену.
— И вот я думаю: это похоже на Реймонда — бросить меня одного в толпе отрывающихся обормотов. А потом девушка начинает со мной танцевать. И дает мне две светящиеся палки.
Тут опять многоточие и пропуск. Девушка была молодая и красивая. Нолан воткнул бы обе палки себе в глаза, если бы думал, что за это она ему даст.
— Ну ладно, машу ими. Девушка улыбается, все клево, а через секунду ее нет. И я с этими палками. Хочу выбраться из толпы — но давка, меня все время заталкивают обратно. Я в замешательстве, потому что в моей компании считали своим патриотическим долгом таких ребят давить. Не то чтобы наши в ДАС сильно этим занимались. Мы старались держать порядок.
— В каком смысле? — спрашивает Маслоу.
— Старались сохранять дисциплину, — объясняет Нолан. — Наша ячейка не занималась беспорядочным насилием. — Достаточно. Если хотят подробностей, он расскажет потом. Хотя больше всего им, наверное, интересно узнать, много ли народу мы отметелили. Так вот, на самом деле — никого. Бывало, правда, им очень хотелось отделать нахального продавца в ночном магазинчике, где хозяином был пакистанец. Да вот беда — в те вечера, когда их особенно подмывало, за прилавком каждый раз стояла какая-нибудь несчастная прыщавая белая девка. Но Мейеру и Бонни пока что не обязательно это знать. Пусть пока воображают себе, что хотят. Пусть думают, что Нолан с товарищами мордуют, как минимум, одного человека в день.
— Я остановился, опустил руки, светящиеся палки висят около моей, типа, промежности, я смотрю на них, и вдруг у меня такое чувство, что моя душа, или что-то там, горит у меня внутри… светится…
Теперь, наверное, Маслоу думает, какой наркотик принял Нолан, а Бонни, мать двоих подростков, думает, что знает , какой. Такой он на самом деле и принял, но случилось все не поэтому. Он принимал экс и раньше. И в ту ночь, когда сделал татуировку — тоже. Ну, и о чем это говорит? К тому времени он столько их принимал, что у него мозг стал как ломоть швейцарского сыра. Но такого чувства он раньше не испытывал. Это было что-то новое. Глубже. Забористей.
— В голове грохотало. Стук. Бренчание. Как будто крылья хлопали. Как будто кровь застучала в ушах, знаете? Накатило и прошло. Я подумал, может, это от динамиков. Потом посмотрел на помост — и вокруг диск-жокеев будто… вертится нимб. Вспомнил рождественскую открытку, которая была у мамы: там Святой Дух в виде голубя в круге золотого света. А потом… это трудней всего объяснить, возникло такое чувство, что я люблю всех вокруг. Всех. Черных и белых, евреев, христиан, коммунистов, уродов, дефективных, мутантов — каждого.
Читать дальше