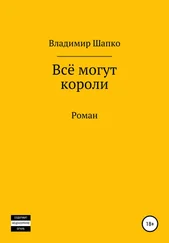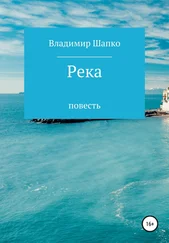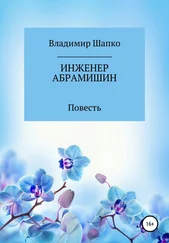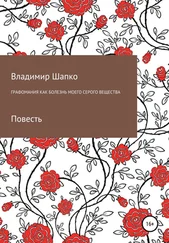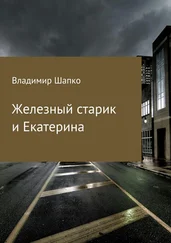И тут и там вдруг начинают нарождаться громадные черепахи. Их уже десятки, сотни. Они топчут, давят маленьких, не пропускают к памятнику. Обламывая панцири, сшибаются с себе подобными – большими. Встают на дыбы, бьются когтистыми лапами. Сами перебрасываются на ход, лезут по панцирям – к центру, к трибуне, к памятнику.
Постамент с памятником вдруг снимает с земли, и он – на спинах у черепах. Опасно раскачивается, кренится, вот-вот упадёт. Но черепахи подлезают под него всё большим, большим числом, выравнивают, поднимают выше, выше… И переломанная, как аэроплан, порванная, перекидывается, отскакивает от панцирей потухшая трибуна…
Он обнимает голову лошади, не даёт смотреть, сам зажмуривается, горько плачет. В сжавшееся сознание ему, увеличенные в миллион раз, бьют и бьют костяные удары, треск, скрежет от миллиона освободившихся черепах…
В центре городского парка, в цветочной пышной клумбе завяз высокий постамент. На постаменте – из бронзы Киров. В гимнастёрке с большими карманами, стоящий в полный рост, с оптимистичной откинутой головой. Широким, плавным разворотом руки он как бы показывает на ползающего внизу садовника Дронова и говорит: «Вот, дорогие товарищи, во что можно превратить нашу грешную землю при желании и трудолюбии – в цветение, в сплошной сад!» Однако «дорогие товарищи» в лице заульгинских ваньков, оббегая клумбу со свои ми тучными корзинами и мамками, с большой скептичиной поглядывали и на ползающего в цветах Дронова, и на дочь его с поливными шлангами, и на бронзового руководителя, указующего с постамента, как надо жить. «Вот если б из бумаги цветы-то были, бумажны, тогда другое дело, тогда греби деньгу на базаре, в карман успевай толкать! А эти… Кому нужны-то? Вы, мечтатели расейские? Промечтали Расеюшку-то. Тьфу!
По ночам клумба тупо, зло вытаптывалась. Вырывались, раскидывались цветы. Землю распинывали сапожищами – на стороны… Утром Дронов стоял над погибшими цветами, как над переломанными испохабленными трупиками. Ветерок трепал седые клочки волос… Дронов приседал, начинал подымать, оживлять, лечить. Через неделю-другую клумба как-то оживала, приходила в себя.
Однажды, пробегая мимо, один шибко храбрый ванёк вдруг скинул на клумбу корзины. Прямо на глазах у Дронова и его дочери. Испытательно. И коромысло туда же, значит. Дескать, уставши он – сил нет, пот отирает… Решительная дочь Дронова палкой отходила его, сучкастой палкой. Со всеми его корзинами и мамкой. По утрам стала встречать ваньков у входа в парк… И оббегать стали ваньки парк. По Кирова, по Диктатуре. «Погодь, полудурья немтая, встренимся ещё на узенькой дорожке! Встре-е-е-енемся…»
Ребята цветов никогда не трогали. Подолгу смотрели, как по-мужски, безоговорочно, дочь Дронова дёргала к клумбе мокрые шланги, как распускала над клумбой высокий, радужный дождь, как у постамента сам Дронов ползал и трудолюбивой пчелой обнюхивал каждый цветок… Точно на экскурсии, молчали. Только и не хватало среди них Галины Опанасовны с её разъясняющей указкой.
Дронов приподнимал голову. Ожидающе поверх очков смотрел на ребят, так и оставшись на коленях рядом с махровым красным цветком… И улыбался Дронов ребятам, всегда улыбался, но тех почему-то стесняли его быстрые, какие-то извиняющиеся улыбки. Стыдили почему-то. Группка молчком растекалась, соединялась вновь за клумбой, напряжённо шла, не оборачиваясь. Потом с дикими выкриками бежала. Дронов, покачав головой, подводил очки к цветку – внимательно изучал.
В городке, в парке этом Дронов появился с прошлого года. С весны. Сразу же поставил у входа в парк мусорную урну. Урну настойчиво спинывали, опрокидывали. Дронов настойчиво ставил урну. На место. Заметал окурки. Начал возить тележкой чернозём с Отрываловки. К памятнику. Сооружал вокруг него клумбу. Жить стал в дощатой времянке в углу парка. Утром вставал, шёл, поднимал урну, заметал, затем тащился с тележкой в Отрываловку. Землю возил долго. С полмесяца. Потом, как из сказки, явились цветы.
Кто он, Дронов, откуда – сперва только гадали.
Летом приехала к нему дочь – лет тридцати… немая… Маша… «Немтой Машей», понятное дело, сразу бабами окрещённая… Приехала издалека – из какой-то ласково-певучей «Аскании-Новы». Узнали бабы, что заповедник это. Большой заповедник на Украине. Тогда стали поговаривать, что Дронов работал когда-то там. Лет десять… одиннадцать назад. Был будто бы профессором. Или даже академиком. То ли по скоту, то ли по птице. Или по злакам. В общем, учёным. Сам Дронов на все уточняющие вопросы женщин, взявших сначала хибарку в деликатную осаду, смущался только, торопливо вспыхивая пугливыми улыбками. От общения с наиболее неуёмными, буйными, всячески уклонялся. Приходить к нему могла только Галина Опанасовна, только она одна. Раз на дню над железной трубой, выведенной прямо из оконца, начинал прозрачно дрожать жарок – Галина Опанасовна что-то готовила на обед (это ещё до приезда Немтой Маши). Стирала возле хибарки, тяжело колыхаясь над оцинкованным мятым корытом, развешивала на верёвку рубахи и подштанники Дронова. Потом сидели они вдвоём на ступеньках крыльца – седенький старичок и пожилая рыхлая женщина с опухшими больными ногами – сидели и молчали. Последние лучи закатного солнца пробивались в их прищуренные, уставшие от боли и жизни глаза. А в слепых кустах промелькивали деликатно тени женщин: понятно – земляки они. Понятно. Потому и допустил Дронов-то. До себя. Её, значит. Квашню. Понятно…
Читать дальше
![Владимир Шапко У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres] обложка книги](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-cover.webp)

![Владимир Марков-Бабкин - Император мира [litres]](/books/386761/vladimir-markov-babkin-imperator-mira-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Белоусов - Тайны захолустного городка [litres]](/books/403168/vyacheslav-belousov-tajny-zaholustnogo-gorodka-litr-thumb.webp)
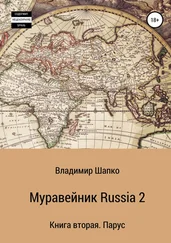
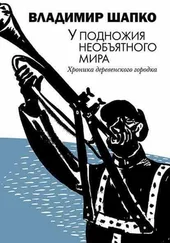
![Владимир Шапко - Лаковый «икарус» [litres]](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-thumb.webp)