И тут, словно кто подслушал ее мысли. Глухо бухнуло орудие на той стороне. Наши ответили несколькими артиллерийскими выстрелами. Где-то далеко прострочил пулемет, и снова стихло. Вот на «той стороне» взлетело несколько осветительных ракет.
– Ждут наступления, а когда – не знают. Все светят ракетами, – басил приглушенно кто-то рядом. Глаза уловили в двух метрах от нее несколько силуэтов солдат, сидящих прямо на земле.
– Скорее бы, всё готово, к примеру, чего ждать? – отвечал высокий тенорок. – Вчера ждали, сегодня ждем, одна маята!
– По всему видно, утром начнется. Лейтенант Головко сегодня вечером еще раз предупреждал, чтоб в атаке на него поглядывали и, это самое, делали, как он. Какую-то цирку опять же придумали, – добавил он, довольный. Видно, цирковая учеба пришлась по душе.
– А чтоб сказать?
– Это самое, видать нельзя раньше времени, мало ли что…
– Ты чево, Липкин, молчишь? – звенел потихоньку тенорок. Семен Липкин, большой солдат, словно сделанный из костей мамонта, пошевелился. Огромный силуэт его качнулся из стороны в сторону, захрустели ветки под тяжелым телом.
– Замечталси.
Мария видела этого большого, толстогубого, доброго солдата в короткой шинели, который двигался осторожно, боясь кого-нибудь зашибить. Представила его смущенную улыбку, сама улыбнулась.
– От бабы сегодня весточку получил, – продолжал он задумчиво, мягко, – жалко ее, сердешную. Не по силам им тепереча в деревне работенка, заместо мужиков. Дуняша моя тихая, ласковая, до работы охочая. – Помолчал. – Порой глянет своими карими оченятами, как солнышком пригреет. И сыночек в мать пошел, не слыхать его в избе: сидит, пыхтит, в пальчиках малюсеньких что-нибудь перебирает, играется.
– А мне не везло с бабами, – говорил с досадой высоким тенорком, сидевший напротив солдат. – Троим бабам алименты плачу. Первый раз женился, тише свечки была, пугливая.
«Это, наверное, тот чернявый, с кудрявым чубом, друг Липкина, я сегодня вечером несколько раз видела их вместе», – подумала Мария.
– А женился – откуда что взялось?! Чисто волчица стала. Всё шерсть дыбом, всё зубами щелкает! Всё неладно, всё не так: и денег даешь мало, и по дому ничего не делаешь. Посмотрел я с месяц, вижу: жизни не получится. Ушел к ядреной матери. Парень я видный, бабы меня любили, на какую ни гляну – каждая моя! – хвастался он. – Прилепилась ко мне наша, заводская, красивая девка. Эта оказалась похитрее. Я не люблю свои деньги бабе отдавать. Люблю, чтоб копеечка у меня копилась, но гордость имею, независимость тоже оберегаю. Всё подсчитал, выходит, двадцатки на мое питание хватит. Не хватит – сама виновата, плохая хозяйка, сама и докладывай.
Получили мы с ней получку, я положил на стол две десятки, она достала столько же, рядом кладет, а глаза хитрющие, так искорки в них и прыгают. Иду с работы, дожидает у проходной; а мне приятно: красивая, иду рядом, гордость берет. А она: «Зайдем, Петя, в магазин, хлеба дома нет. У тебя нет рубля с собой? Не взяла денег, забыла», – писклявит он, изображая жену. – Да так за вечер пятерку выманила. Ладно, думаю. На другой день такая же история. Меня зло взяло! Говорю: «Так, раз так, твою мать, а где сорок рублей? А она мне записочку, в ней столбцом всё до копейки расписано. Там рубашка, что мне купили, и туфли ей отмечены. Я на дыбки, говорю: «Я причем, что тебе не хватило? Докладывай свои!» А она: «Ты мужик или не мужик?» Во куда завела! «Ты должен семью содержать». Не хочу, – говорю, – тебя, кобылу этакую, содержать! Собрал вещички и ушел. Долго после этого не женился. Любо было мне, как на сберегательной книжечке циферки растут. Сам тратил мало. Напоить и накормить было кому. Бабы как мухи облепили меня. А у тех двух ребята народились. Взбеленились они обе, на алименты подали! Зарплаты сразу половины как не бывало. Мотаться надоело, снова женился. Сразу предупредил: копеечки давать не буду. Слова не сказала. Поила, кормила, одевала с иголочки, любовалась на меня да радовалась. Хорошая баба попалась. И собой ладная, и веселая, и ласковая. А как второй сын родился – выгнала! Сказала: «Не хочу больше такого бугая кормить, от детей отнимать, не по силам мне!» Вот так. А я к ней сердцем прирос, больше всех жалко. Сначала возгордился, ушел. Места себе не находил, тоска по ней берет. Просился обратно, унижался, говорю: я за себя платить буду. «Ничего, – отвечает, – и на детей будешь!» Озлился я, спрятался от всех, уехал на север. Нате-ка, выкусите!
– Жмот ты и кобель, – забасил первый и сплюнул с презрением. – И сидеть рядом с тобой не хочу! – встал и пересел на другую сторону.
Читать дальше
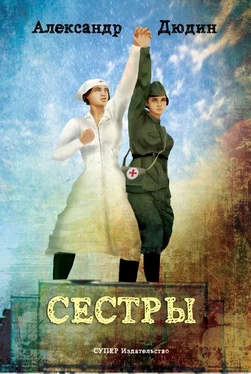



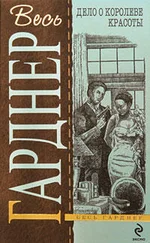
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](/books/317645/filip-farmer-otvori-sestra-moya-otkrojsya-mne-s-thumb.webp)





