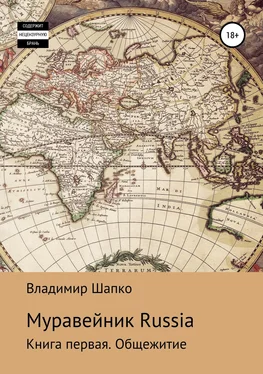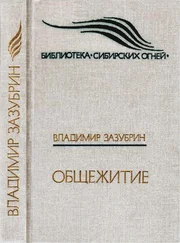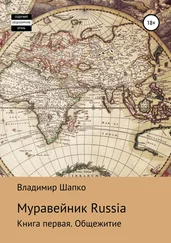Сидели на скамейке в каком-то скверике. Гнутый старик в грязном плаще и рваной обуви кормил голубей. Выщипывал мякоть из полбуханки и кидал. Голуби слетались. Голуби заворачивали и бежали за хлебом армией.Внучка спросила бабушку, проявив внезапный интерес: почему голуби летают? «От голода. Они от голода лёгкие, потому и летают», – долго не думая, ответила практичная бабушка. Кропин отворачивался, задирал голову, ударяемый внутренним истеричным смехом. «Что с вами, Дмитрий Алексеевич?» – повернулись к нему изумлённые глаза. «Ничего, ничего, не беспокойтесь!» Когда пошли, отставал, оступался, ничего не видел от давящего смеха, от слёз…
Ночью Кропин опять не мог уснуть – храп неутомимой старухи был свеж, по-морскому накатен. Бушевал. Кропин свистел, хлопал в ладоши – ничего не помогало. На минуту прервавшись, испуганно вслушавшись в измученную тишину, гостья раскатывалась с новой силой. Демонстративно громко проскрипев пружинами, Кропин встал, сгрёб подушку, направился к двери. «Вы куда?» – сразу спросили его из темноты. «Сейчас!» – Хлопнул дверью.
Лежал на боку, на разложенном диване Художника Жогина, сплошь уделанного красками – как на шершавом, засохшем макете-панораме Бородинской битвы. Рука ощупывала заскорузлые редуты, укрепления, пушки,вроде бы даже кивера страдных солдат… И начал уже было проваливаться в сон… но откуда-то прискакал на коне Денис Давыдов, оказавшийся Жогиным, спрыгнул на землю и сразу же закричал, мотая головой и плача: «Товарищ фельдмаршал! Товарищ фельдмаршал! Наша жизненная битва полностью проиграна! Полностью!» Стал приседать, ударяя себя кулаком по голове: «Обошли! О-обошли!» «Где?!» – вскричал Кропин и прищурил единственный – зоркий – глаз, и приставил к нему трубу. «Во-он! Во-он!» – всё кричал-плакал Денис Давыдов-Жогин, чумазый, в пороховой гари, но в кивере и с усами. Кропин водил трубой. Не туда, оказывается. «Во-он!» И верно – слева наседали носатые французы. Слева обошли русаков. «Обошли-таки, ятит твою!» – выругался Кропин и схлопнул трубу.
А потом густо потянуло по всей панораме дымом, и стала ходить по ней Женщина, Женщина-Мать с распущенными волосами и в длинной рубахе. Вместе с сильным симфоническим ветром музыкально звала: «Дмитрий Алексеевич! Где вы? Отзовитесь! Дмитрий Алексеевич!»
Кропин, сев на диване, раскачивался. Ничего не соображал. Жалобный голос доносился из коридора. Широко расставляя ноги, чтобы не упасть, Дмитрий Алексеевич пошёл…
Словно находясь на крохотном островке, вокруг которого сплошная вода, они держались за руки и высматривали его, Кропина, почему-то на потолке. Бабушка и внучка. Словно искали его там, как на небе. Взывали к нему, точно к прячущемуся где-то за облаком ангелу. «Дмитрий Алексеевич!Где вы!?» Увидели его в раскрытой двери, заспешили. «Дмитрий Алексеевич,родной вы наш, – боимся!» Старая всклоченная женщина дрожала, моляще смотрела на Кропина. Так же как и девочка, которая не отпускала её рук. Обе в серых коробах до пят, испуганные. «Пойдёмте к нам. Пожалуйста». У Кропина сжалось сердце. «Простите меня. Сейчас». Он ринулся обратно в комнату Жогина, схватил подушку, тут же вышел. Повёл плачущую женщину. Предупредительный, сам страдающий, с подушкой под левой рукой. Из своей двери на них смотрели Чуша и Переляев. Оба весёлые. Откровенно прыскали. Захлопнулись. Кропин осторожно завёл бабушку с внучкой в комнату и включил свет. Снова укладывались. Обнятая сразу заснувшим ребёнком, женщина по-прежнему плакала, говорила, что больше не будет. Что темноты боится, когда никого нет в комнате. Кропин её успокаивал, мол, ничего, бывает, и уже засыпал, но за стеной поставили пластинку, и, как всегда, Переляев начал тамТрясти Сено. Под забойный фокстрот. «О, господи! Эти ещё опять!» «Что это?!» – вскинулась на локоть женщина. «Не пугайтесь… Любители эстрадной музыки… Спите».
Через минуту Кропин, наконец, спал. В сон – провалился. Теперь уже сам храпел. Храпел отчаянно, пропаще, страшно. Женщина вздрагивала и всё прислушивалась. А за стеной сено уже будто косили. Выкашивали косами.Шыхх! Шыхх! Шыхх!..
Рано утром Кропин выплясывал с тяжеленными чемоданами на лестнице к нетерпеливо сигналящему с улицы такси. Кропину нужно было на работу, на дежурство, поэтому поехать проводить гостей на вокзал он не мог. Вдвоём с шофером кое-как засунули чемоданы в багажник. Потом пошли сумки, сетки. Перестав суетиться, руководить, Елизавета Ивановна взяла внучку за руку, готовясь к прощальным, очень важным словам, которые она должна сказать Дмитрию Алексеевичу. Но Кропин, глянув на них, стоящих в каких-то одинаковых дорожных пелеринках и с сумками через плечо, вспомнив, что почти так же стояли они и ночью в коридоре и звали его, Кропина, стал отворачиваться, глотать слёзы. Да что за сентиментальный старик! – корил он себя. Да что же это такое! Елизавета Ивановна начала было говорить заготовленные слова, но Дмитрий Алексеевич повернулся… и вдруг присел к девочке, к внучке ее. Рассматривал ангельское личико во все глаза. Точно увидел девочку впервые. Точно привезли её к нему, как к деду, как родную. «Что, Элечка, домой хочешь? К маме с папой? Соскучилась?» «Да», – прошептала девочка, застенчиво опустив глаза. И так же, как Жогин всегда делал, старик вывернул ей из кулака большую конфету. Фокусом. «Спасибо», – взяла конфету Эля. Щёки её были как две вишенки. Кропин осторожно поцеловал их. Потом держал в руках руку Елизаветы Ивановны и, не давая ей говорить, заверял, что всё понял, что приедет в августе, как сказал, что телеграмму даст и крышки для банок непременно привезёт, не забудет, не волнуйтесь… Тоже поцеловал. В ответ старуха охватила его шею, стала подпрыгивать и неудержимо целовать. Но он уже теснил её к раскрытой машине. Следом подсадил внучку и захлопнул дверцу. «Волга» с места бросилась вперёд. В заднем окне махались две руки. Большая и маленькая. Чувствуя всю остроту, всю предрешённую безысходность прощания, разлуки, Кропин, не сдерживаясь, плакал, тоже махал им. Шептал: «Сентиментальный старик! Глупый, сентиментальный старик!»
Читать дальше