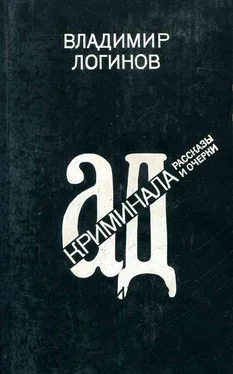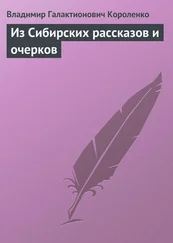Жизнь Апостола в России была сплошной мукой. Следуя своему предназначению (он был закодирован на "Деяния” во имя Отца и Сына), Фома достойно выполнял все данные ему установки, постоянно подставляя душу под страшные и коварные удары торжествующих властолюбцев. Его сбивали с ног и затаптывали, но он поднимался и снова шел туда, чтобы умереть во имя Их (теперь он не видел разницы между Отцом и Сыном). Но сил оставалось все меньше…
Когда приходил сосед, Апостол поднимался с постели и, придеживаемый под руки, садился в кресло. Андрей Иванович — так звали шестидесятипятилетнего философа — дрожащими руками разрезал пластмассовую пробку на бутылке и наливал по полстакана отвратительной кроваво-грязной жидкости, именуемой портвейном. Сначала он помогал Апостолу проглотить это пойло, потом опрокидывал стакан сам. За час — полтора они выпивали бутылку и выкуривали по папиросе. Апостол приходил в себя и начинал что-нибудь рассказывать из своей первой жизни. Философ воспринимал его слова как бред алкогольного психоза, но слушал внимательно и дивился логике повествования, которую пытался оправдать писательским даром рассказчика. Из всех историй, поведанных Апостолом, его потрясла Песнь о любви, которой Фома покорил сердце флейтистки-еврейки в каком-то городке Сандарук.
— Там мы с купцом попали на свадьбу, — рассказывал Фома. — Местный царек выдавал замуж свою дочь. И вот в самый разгар веселья появляется полуобнаженная флейтистка, лет семнадцати. Я как глянул на нее, так и обмер: удивительной красоты еврейка, моя соотечественница! Суламифь, Юдифь, Есфирь — разве они могли сравниться с нею по красоте! Как она попала в эту чужую страну, мне было непонятно! И вдруг она заиграла…
Стеклянные глаза на морковном лице Андрея Ивановича увлажнились. Когда-то в молодости на философском факультете МГУ он был влюблен в однокурсницу-еврейку и ходил за нею по пятам, изнемогая от страсти. А она вышла замуж за какого-то замминистра, потом защитила кандидатскую и лет тридцать назад уехала в Израиль. Однако образ ее почти полувековой давности он бережно хранил в сердце своем, а последние годы нередко видел во сне. Она тоже изумительно играла, только на фортепиано.
— Я не мог на нее смотреть — так волновалось сердце мое, — продолжал Фома. — А она подошла ко мне и не отходила, раня душу дорогими для еврея звуками. Я совсем опустил голову и закрыл руками уши, ибо все-таки я был Апостолом, посланцем Бога, а не простым смертным. Я не имел права на счастье любоваться женщиной. А когда она кончила играть, подошел здоровенный пьяный кравчий и ударил меня. За что? — удивился я. “За то, что ты не уважаешь прекрасное, босяк!" — прорычал он на своем корявом языке. И тогда я запел свою Песнь, над которой нехорошо посмеялся Иисус, когда я показал ему свиток. Он велел мне сжечь его, и я его сжег, но слова помнил всегда. Ты знаешь по-древнееврейски или, хотя бы, по-гречески?
— Бог с тобой, — искренне удивился Андрей Иванович. — Я кандидат наук по марксистско-ленинской философии. Немножко знакомился с греческим на первом курсе, да и то почти пятьдесят лет назад. А о древнееврейском и понятия не имею. Ты еще спроси по-сирийски…
— А у меня был вариант на сирийском, ну и, естественно, на греческом. Однако тогда я начал петь по-еврейски, чтобы слова песни могла понять только она одна.
— Ну а по-русски-то как?
— Здесь не будет ни размера, ни ритма, но смысл я тебе попытаюсь передать.
— Давай, голубчик, пояснее. И желательно, так сказать, с комментариями. Я очень люблю, когда все разжевывают, так как сам преподавал.
— Церковь моя — дочь света, царское сияние исходит от нее, — то ли пропел, то ли проговорил Апостол. — Церковь — в греческом — кори — переводится как дева или невеста.
— Да ты что! — воскликнул философ. — Никогда не знал, что церковь — значит невеста! Как все гениально просто! Вот почему ее так украшают!.. Все, больше не перебиваю. Прости, дорогой.
Лик ее, украшенный сапфирами, топазами и бриллиантами, — очарователен и прелестен.
Одежды на ней — словно распустившиеся цветы благоухают, дурманят, обволакивают душу блаженством. Над главой ее сияет золотистый нимб, оберегающий и охраняющий все ее тело до самых пят, похожих на спелые яблоки.
Правда в чистейших глазах ее светится, радость в ногах обнаженных играет, будто меж ними младенец резвится.
Губы ее чуть приоткрыты, и, кажется, стоит едва пошевелить ими, как польётся нежнейшая песнь о любви, доступная любому человеку Земли.
Читать дальше