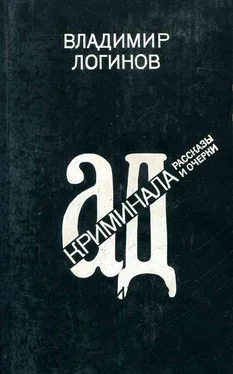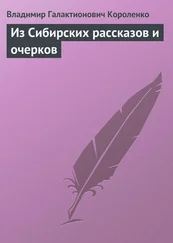Когда меня взяли, мне всего двадцать лет было. Глупа была. Не знала, как себя вести. А им было невыгодно мелких сошек брать, вот и стал на меня следователь давить, всякие признания выжимать — словом, делать так, как ему хотелось. Первоначальная сумма их никак не устраивала. Держали меня в Лефортове девять месяцев, а за это время, сами знаете, любой может обломиться. Причем условия жесткие. А они мне с издевкой: "Вы в такую тюрьму попали, все равно что на курорт”. А курорт такой: камера на двоих, даже радио нет, да еще с тобой человек сидит, который на них работает. Это я уже потом поняла. Что со мной первые три месяца было — не описать. Сплю и свободу вижу, а просыпаюсь — камера. Ну и со мной истерика. Какие я могла показания в таком состоянии давать? А они опять с ехидцей: "Мы же не говорим, что у вас там "Боинг-701” стоит.” А когда я начинаю доказывать, что у меня вот такие и такие расходы были, смеются. Ну, откуда они могли знать, какие у меня суммы? Так они меня долбили, суммы накручивали. И довели до такого состояния, что мне уже жить не хотелось, было все равно. А тут еще стали на искренность давить, якобы на дачу каких-то смягчающих вину показаний. И я поверила, что чем больше наговоришь, тем меньше дадут. Маму обысками замучили. В общем, наговорила, с моей стороны полная игра была. И наигралась на девять лет. А иск совсем бешеный накрутили — двести тысяч…
— И уже пять лет отсидели?
— Да, эти пять лет я прожила в загробной жизни. Недаром люди тюрьмы боятся. Здесь так душа страдает, что не передать. Забор у нас как какая-то граница с другим миром, и появляется чувство отдаленности от людей. Никаких стрессов и страстей, кроме отрицательных. Здесь время как бы останавливается, замирает. Чувствуешь, как физиологически стареешь, смотришь, кожа посерела, морщины появились. И душа озлобляется. Вроде бы и живой человек, и как-то приспосабливается, но в душе такую слезную трагедию носит, что никакой мечты, никакой мысли у него нет. Как живой труп. И вся эта зоновская жизнь становится твоей, ты как-то в ней размешиваешься, растворяешься, черствеешь. Я здесь такой эгоисткой стала, себя не узнаю. Раньше я сама себе нравилась, милостыню старушкам подавала, а теперь… На многое закрываю глаза, какое-то отупение со мной произошло. Чувствую, что умирают клетки, мысли. Какая-то медленная мучительная смерть. От срока устаешь не столько физически, сколько морально. Ведем себя как мыши — чем тише, тем лучше. Да еще эта система ужасная. Никогда не думала, что сюда попаду…
Были первое время срывы психические. Поплачешь, и вроде легче. И, конечно, здесь большую роль играет поддержка с воли. Поначалу вообще кошмар был: подъем в четыре утра и до семи вечера на фабрике пашешь. Приходишь без рук, без ног. И так каждый день. А потом — окружение. Многие тут без дома, без рода-племени, на них эта система такого гнетущего давления не оказывает. Наоборот, они как бы отходят от того безобразного образа жизни, который вели за забором. Впечатление такое, что для них это вовсе не наказание. Смотришь, белеют, прически появляются. А если срок у них два-три года, диву даешься: приехали, перышки почистили и дальше. Но лично для меня это большая кара, большой облом вышел, хотя я уже и опыта набралась, на жизнь другими глазами смотрю. Оценила, что такое свобода, раньше я об этом просто не задумывалась. Не буду утверждать, что выйду я на волю и сяду на черный хлеб. Конечно, никого не убью и не ограблю, тем не менее, если где можно будет найти какие-то лазейки, своего шанса не упущу и, естественно, за семьдесят рублей работать не пойду. Лучше буду здесь сидеть.
Вообще я этим строем, этим обществом настолько разочарована, что у меня давно нет никаких патриотических чувств. Нет никакой справедливости. Чем я виновата, если люди, с которыми я имела дело, спокойно на свободе разгуливают, живут без проблем? Вот я в отпуске была и их на рынке видела. Это же волки, и они на воле. Там целая мафия. И она есть, была и будет. А я сижу за то, что своим трудом и стараниями… Где тут справедливость?
— Но вы-то сейчас неплохо устроились?
— Да, здесь мне уже года полтора везет — работаю в таком месте, что могу сохранить здоровье. На кухне в Дээмэре. Там молоко, кефир, другие продукты, что-то перепадает. Ну и посылки получать почаще разрешили. Нет такой необходимости искать кусок хлеба, как когда на фабрике работала. Сейчас мне бидон молока литров на сорок привезут, так я его зацеплю, как пушинку! — Она звонко рассмеялась. — Да и за собой стараюсь следить. Не хочу отсюда старухой выйти. Пусть хоть и в тридцать лет. Здесь никто ни за фигурой, ни за кожей не следит. Спортзал есть, да в него никто не ходит. Хоть бы аэробикой занимались, что ли…
Читать дальше