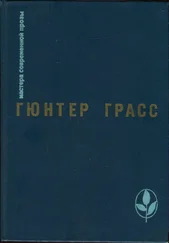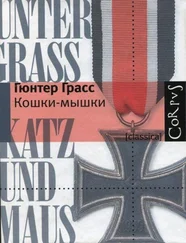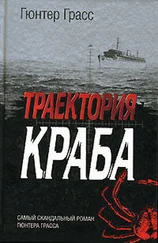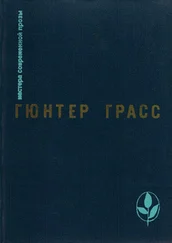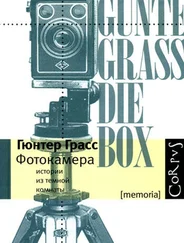Когда в декабре 1970 года Зигфрид Ленц и я сопровождали канцлера в Варшаву, мы воспринимали себя отнюдь не как декорацию; нет, именно потому, что Ленц и я приняли утрату родины, мы признали и западную границу Польши. Гордость за Германию? Да, оглядываясь назад, я горжусь, что был тогда в Варшаве.
Кстати, не только Брандт и его узкий круг оживили эту форму политической культуры; тот самый Густав Хайнеман, который, будучи только что избранным президентом Федеративной республики, на вопрос пытавшегося застать его врасплох журналиста: «Любите ли Вы государство?» ответил с примерным лаконизмом: «Я люблю не государство, а свою жену!», тоже с абсолютной естественностью общался с интеллигенцией, иногда даже во время игры в скат.
Когда я пытаюсь оживить в памяти это короткое и все же оставившее столь большой отпечаток время, я говорю об утрате. Неповторимым осталось то, что было рассчитано на продолжение. Смерть Вилли Брандта сделала эту утрату еще более ощутимой.
А вот и другие примеры пережитых потерь: что стало с многообразием общественного мнения? Как шелестел немецкий газетно-журнальный лес, когда «Шпигель» еще был тем, чем обещал быть: например, отчетливой альтернативой шпрингеровской прессе. Хотя и выражавшая в экономическом разделе взгляды, сходные с «Франкфуртер альгемайне цайтунг», «Ди цайт» отличалась от ее консервативной статичности своим радикальным либерализмом. Сегодня редакторы отделов культуры названных изданий вполне взаимозаменяемы; они лишь кокетливо делают вид, что спорят друг с другом, да и то в придаточных предложениях. Зато самоуверенная расправа с демократической левой стала хорошим тоном. Даже во «Франкфуртер рундшау» эта тональность порой вполне ощутима. Германия, единый отдел культуры! — хочется воскликнуть, заменяя другой, известный лозунг [59] Имеется в виду лозунг немецкого объединения: «Германия, единое отечество!»
, особенно теперь, когда столь часто призываемое отечество вновь утратило единство.
Конечно, есть и исключения. Так, из остатков когда-то неразличимой по духу прессы ГДР вылупилось несколько весьма любопытных журналов: однако кто же на Западе станет читать восточную «Вохенпост»? Но когда и без того находящееся под угрозой из-за образования газетно-издательских концернов общественное мнение к тому же начинает политически приспосабливаться и терять былой дух противоречия, становится ощутимой утрата, которую, если это продлится долго, не выдержит никакая демократия.
Говорить обо всем этом в Мюнхене и не упомянуть «Зюддойче цайтунг» было бы невежливо. Признаю: пока она еще держится, пока. Но кто на Востоке республики читает это надрегиональное издание, разве что кому-то — будь что будет — Бавария ближе, чем Бранденбург?
Пожалуй, последний пример особенно отчетливо показывает, насколько чужды немцы друг другу. Они лишь с большой неохотой принимают к сведению существование других соотечественников. В этой окаменелой чуждости восточных и западных немцев мекленбуржцы и саксонцы с одной стороны, и жители прирейнских земель и швабы — с другой чувствуют себя отдаленными друг от друга более, чем когда-либо. Даже северные и южные немцы, словно подтверждая разделяющую роль Майна, абсолютно чужды друг другу.
Эти разграничения — результат нашей истории, упорно поддерживавшей сепаратизм и лишь изредка и чаще всего против воли подталкивавшей к единству. Но, может быть, столь многоликое отчуждение является ценой за культурное многообразие всей страны, которая во время государственных и спортивных событий желает именоваться Германией.
Этому по праву соответствует наше федералистское устройство. Оно гарантирует не только отчуждающие, но и оживляющие различия, и с усердием владельцев маленьких садовых участков, ставящих заборы, оберегает наше культурное богатство, которому — от самодеятельного театра до охраны старинных развалин — всегда обеспечены денежные дотации.
Так распорядилась наша конституция. Но федерализм, эта умная застрахованность от самих себя, в процессе недавнего объединения потерпел ущерб. И не то чтобы где-то был отменен суверенитет какой-либо из земель, нет; дело в старонемецком сепаратизме, во врожденном эгоизме земель, в боязливой косности, этой оцепенелости в собственном спертом воздухе, в своекорыстии, заставляющем упрямо торговаться за дотации и компенсационные выплаты; иначе говоря, во всем том, что лишило немецкий федерализм его политической конструктивной силы, и так отсутствовавшей у Федерального правительства и у оппозиции в процессе объединения. Но если федерализм как корректив по отношению к государству окажется несостоятельным, то к списку уже перечисленных потерь придется добавить еще один минус.
Читать дальше