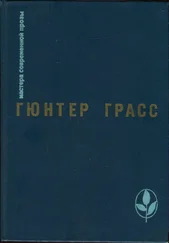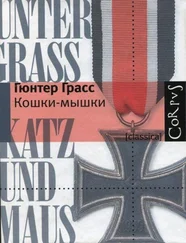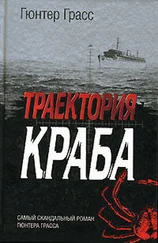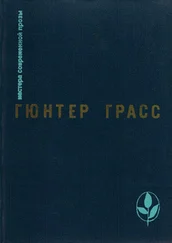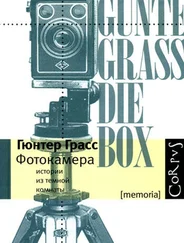Поэтому я озаглавил свою речь: «Речь об утратах».
Список велик, и его придется сократить до некоторых примеров. Все началось с утраты родины [57] Имеется в виду Данциг, где родился Гюнтер Грасс.
. Но эту утрату, какой бы болезненной она ни оставалась, следует рассматривать как правомерную. Немецкая вина, то есть преступная война, геноцид по отношению к евреям и цыганам, миллионы убитых военнопленных и людей, насильственно угнанных на принудительные работы, преступная эвтаназия, к тому же страдания, которые мы, оккупанты, причинили нашим соседям, особенно польскому народу, — все это привело к утрате родины.
По сравнению с миллионами беженцев, которым, как правило, было очень трудно обосноваться на Западе, мне повезло. С помощью языка я хоть и не мог возместить эту утрату, но, соединяя слова как обломки, я мог создать нечто, в чем прочитывалась история утраты.
Большинство моих книг вызывают из небытия погибший город Данциг, его холмистые и равнинные окрестности, матово отсвечивающее Балтийское море; с течением времени и Гданьск превратился в тему, о которой надо было писать. Утрата сделала меня красноречивым.
Лишь то, что утрачено полностью, страстно требует, чтобы его снова и снова называли по имени; возникает мания — выкликать исчезнувший предмет до тех пор, пока он не отзовется. Утрата как предпосылка литературы. Я почти склоняюсь к тому, чтобы пустить в оборот этот тезис, в котором заключен мой опыт.
К тому же потеря родины сделала меня свободным для связей другого рода. Присущая всему, что как-то относится к родным местам, непреложность оседлости теперь для меня недействительна. Почти легкомысленное удовольствие от перемены мест рождает любопытство к чужому. У лишенного родины горизонты шире, чем у жителей передающихся по наследству больших и малых участков земли. Поскольку никакая идеология не увеличивала цену моей утраты — ведь не было утеряно ничего исконно немецкого, не было обретено ничего исконно польского, — мне не нужны были национальные костыли, чтобы чувствовать себя немцем.
Другие ценности стали важны для меня. С их утратой примириться труднее, ибо они оставляют ничем не заполняемую пустоту.
Хотя я и привык, что каждое написанное и сказанное мною слово немедленно вызывает полемику, но за последние три года, то есть с того момента, как я критически высказался по поводу с самого начала неудачного процесса немецкого объединения и стал снова и снова выступать с предостережениями по поводу этого бездумного метода «раз-два-взяли», мне пришлось в конце концов убедиться, что я говорил и писал в пустоту. Мой патриотизм, для которого важно не государство, а его конституция, оказался нежелательным.
И не только со мной дело обстояло именно так. Я предполагаю, что сходный опыт утраты затронул и Юргена Хабермаса и Вальтера Йенса, Кристофа Хайна и Фридриха Шорлеммера, как и всех тех, кто вместе с Вольфгангом Ульманом и «Попечительским советом за демократически конституированный союз немецких земель» безуспешно пытался выполнить требование тем временем вычеркнутого заключительного параграфа Основного закона, § 146; согласно которому в случае объединения немецкому народу должна быть предложена для голосования новая конституция.
Этот шанс ныне проигран, упущен. Главные журналисты, которые тогда выступали за поспешное присоединение ГДР, а требование новой конституции оценили как ничего не стоящее, они, несущие свою долю ответственности за национальное несчастье бездарно осуществленного объединения, и по сей день не готовы признать свои обманчивые железнодорожные сигналы и отказ от своевременного обсуждения вопроса о новой конституции как ошибку, ведущую к тяжелым последствиям. Ибо, как и прежде, не происходит ничего или почти ничего: лишь где-то в партийных недрах, спрятавшись от общественности, втайне заседает какая-то конституционная комиссия. Зато хватает усердия, чтобы и без того обтрепанную, дырявую конституцию еще более сузить в ее главной, сущностной части.
Признаюсь: произносить речи, не слыша эха, — для меня новый и не слишком-то стимулирующий момент. Было ли когда-нибудь по-другому? Конечно! На протяжении тех немногих лет, когда Федеральным канцлером был Вилли Брандт, пытавшийся осуществить главный лозунг своего первого правительственного заявления: «Больше демократии — оправданный риск!» Еще будучи правящим бургомистром Берлина [58] Имеется в виду Западный Берлин, тогда еще отделенный стеной от столицы ГДР.
, с помощью своей жены Рут, он приглашал для бесед, смысл которых заключался в критике и которые нередко взрывали ставшее тесным берлинское самосознание. Напряженное, ибо, как правило, требующее размышлений и внутренних усилий, общение с интеллигенцией было для Вилли Брандта естественным. Вместе с ним и Карл Шиллер, и Адольф Арндт ценили эти беседы, отнюдь не ограниченные простым перечислением трудных проблем. Смелое, но за минувшие годы превратившееся в пустую формулу понятие «политическая культура» какое-то время было живым и полным реального смысла, это значит: мы слушали друг друга; добродетель, которой можно было учиться у Вилли Брандта.
Читать дальше