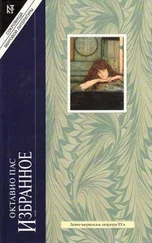И это было почти правдой. По крайней мере, ему хотелось, чтобы так и было.
К террасе прилегало помещение, почти равное ей по площади. Лакуры в основном жили именно там. Одну стену полностью занимал огромный книжный стеллаж, в центре стоял рояль, рядом было пространство для струнного квартета. Столовая и кухня находились на северной стороне, а крошечные спальни – на южной, куда вел небольшой коридор. В спальне Катрин теперь Жюль сделал игровую комнату для Люка, предназначение ее было заманить малыша в гости к дедушке, устроившему для внука игрушечный рай. Точно так же ему хотелось сотворить для близких домашний рай, когда его семья была еще молода и казалось, что никогда и ничто не изменится.
Но все изменилось. Жаклин ушла. Катрин навещала отца, но жила теперь на северо-западе, в Сержи. Люк, когда мама привозила его, теперь всегда спал, у него не хватало силенок играть. Живя в одиночестве, Жюль, подобно большинству вдовцов и вдовиц, разговаривал сам с собой. Вернее, не совсем с собой. Ни разу он не обращался к себе самому, он беседовал с Жаклин, с мамой, с отцом, и больше ни с кем. Он излагал свои задушевные отчеты ровным голосом и почти без эмоций. Жюль мало верил, что кто-нибудь его слышит, хотя допускал, что каким-то образом – силой надежды или чудом – он мог бы до них достучаться. Пусть они его не слушают, но ему хотелось говорить с ними все равно. Со временем его преданность не уменьшилась ни на йоту, и он любил рассказывать им все, что произошло с тех пор, как они ушли. Конечно, ему хотелось услышать их мнение, но они никогда его не сообщали. И все-таки Жюль рассказывал, словно ожидая ответа. Ведь, будучи безмолвны и неподвижны, обладая вселенским терпением, сострадательные мертвые смотрели на все бесконечно мудрее, чем живые, большинство из которых ни на миг не остановятся, мечась по жизни, словно рыбы в неводе.
* * *
Пока он возвращался из «Георга V», дождь прошел. Жюль подъехал к гаражу, нажал кнопку в машине, и потолок втянул гаражную дверь, будто дом заглотил кусок шарфа. Он въехал, дождался, пока за ним опустилась дверь, и вышел из автомобиля, не озаботившись даже запереть его. В просторном гараже стояли «роллс-ройс», «майбах» и два ящерицеподобных мотоцикла – таких же черных и зализанных, как прически их жестоких наездников. Самовлюбленные идиоты обожали отвратительный рев дорогих моторов. Этот звук, подобный вою могучей пилы, раздирающей чересчур твердое дерево, звучал для них музыкой. Затянутые в кожу, в шлемах, похожие на черных жуков, они оглушительно стреляли выхлопными трубами на выезде из гаражных ворот и с ревом вылетали на дорогу. Чуть позже было слышно, как они переезжают Сену от Ле-Везине к Ле-Пек с ревом «юнкерсов», покоряющих Польшу. Этим людоящерам было пофиг, что они перебудили тысячи младенцев во время дневного сна, а ночью – все население, до того мирно почивавшее в своих, как они думали, тихих селениях.
В хорошую погоду «роллс» и «майбах» дважды в неделю вывозили «проветриться». Прибывал семейный шофер в униформе и восемь часов обхаживал их, поэтому они были чисты и блестели, как только что с конвейера. Запах, витавший в их деревянно-кожаных салонах, дорогого стоил, особенно если его сопровождало, пусть чуть заметное, благоухание духов изысканных женщин, которых часто доставляли к Шимански на дом для деловых встреч. Он был прикован к инвалидному креслу и не мог больше летать повсюду, как во времена, когда он создавал свою империю, возросшую с силой электрической энергии из маленькой аптеки в Пасси. Теперь скромная лавочка превратилась в мультинациональный концерн с предприятиями по всему миру, выпускающими не только лекарства, но и реактивные двигатели, парфюмерию, подъемные устройства, телефоны, морские суда и шампанское.
Жюль мог бы разместить сотню фотографий Жаклин по всему дому, но знал, что она бы этого не одобрила. Поэтому у него их было только пять. Для такой большой квартиры пять фотографий – не бог весть как много. Он мог бы развесить по дому сотню фотографий Катрин, но она была жива и молода, поэтому у Жюля их было только две и еще фотография родителей – единственное сохранившееся изображение. Эти снимки стали для него миром, равным всему окружающему миру, а может, и превосходящим его, поскольку в них он находил утешение и чувство неуязвимости. Как избранная музыка, исполненная должным образом, они могли стать окном, глядящим по ту сторону жизни.
С омерзением, которое вышло ему боком, Жюль отвергал всяческое теоретизирование в музыке. На факультете ему не светило продвижение, поскольку он предпочитал не вдаваться в анализ чудес, происходящих внутри музыки, и не подвергал сомнению ее естественное течение. Он обучил небольшой отряд замечательных музыкантов, хотя с исчезновением аудитории любителей классической музыки ни один из них не имел ни желания нанять рекламного агента, ни личной склонности обращаться к публике напрямую – и таким образом пробиться к славе и богатству. Они трудились в безвестности. Жюль был способен передать ученикам технические тонкости ремесла. С его обширным опытом это давалось легко, и как мэтр он был непререкаем. Но не техника составляла существо того, чему он учил своих студентов. Сперва он добивался от них безукоризненной игры, а убедившись, что у них получается, просил их отрешиться. По аналогии: закрыть глаза, отпустить руль, ослабить поводья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу