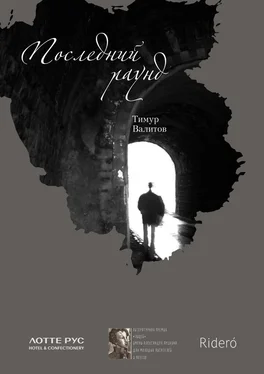— Давай! — и экран перед ним зажегся, и стало светло, и откуда-то сбоку голосом брата спросили — печально и растерянно:
— И чего давать?
Аэропрограмма развернула модель пространства, прочертила ракете маршрут — Якопо поправил его в трех местах, огибая участки, которым не верил, которых не помнил. Мотор уже рычал; маечка под скафандром, намокнув, прилипла к телу. Якопо потянул за штурвал — кругом затряслось, панель уехала вбок, шлем ударился о спинку кровати — и тотчас наверху заполыхало желтым, словно не стало потолка, словно ракету разрезало надвое.
— Якопо, — заплакала рядом мама, — ты слышишь меня, Якопо? — и вдруг оторвало от подушки, и на мгновение воздух по спине — и снова простынь, горячая, насквозь сырая, и решительно ясно, что ракета не взлетит. Колокольчик смеялся над Якопо, прохожие шумели за окном — в тени Святого Августина, в брызгах воды, поднимавшейся струями над площадью, — от воды не так жарко, легче дышать. Свет растекался от потолка по нутру ракеты, выхватывая из черноты подоконник, обшарпанный письменный стол, корешки книг, пятно спирта и крошки на ковре, карандашный рисунок на обоях, косматую голову брата, букетик сухоцветов, табуретку с микстурами — и еще склянки, флакончики по полу, опрокинутые, разбросанные в бреду, — и складки на пододеяльнике, паука в паутине, сизую тень между гор на полувыцветшей картинке, смятую вершину пирамиды, собачьи слюни, бабушкину клюшку, набитый невесть чем дорожный чемодан, умывальник в углу, атлас звездного неба, графин воды, тетрадку в розовой обложке — и мамино лицо, такое несчастное, такое измученное, что кажется, будто радость, неожиданная и неуверенная, попала в него по ошибке и незачем ей здесь быть, этой радости, а сколько впереди ночей без сна, сколько ненужного солнца, сколько птичьего крика, собачьего лая, сколько макетов и контурных карт — вся жизнь по контурной карте — и Якопо задохнулся, откашлял рыжими сгустками на подушку — все, пора! — шагнул через тело, съежившееся в центре кровати, встал над приборами, микстурами, над перепуганными лицами, над площадью и людьми. От ракеты осталось всего ничего — трубки, ошметки — Якопо расправил себя, обернул кверху, весь устремился — и ни к чему ракета, ни к чему — как жарко, как же жарко! Якопо летел: через желтое, красное, через запах земли, через пальцы, двери, железо, обветренное до синевы, и полные светом комнаты, через ветки, обожженные, выкрашенные черным, легко, едва заметно, навстречу
Все, я умру, решает Соня, когда поезд поворачивает и скрывается за станцией, приду домой и умру — или даже до дома не дойду.
Она одна на перроне — крошечная между двух бетонных столбов, подпирающих навес из кровельной жести, и так это тяжело — оставаться одной — что кажется, будто нет никаких столбов, а навес лежит на ее плечах и затылке. Даже спустившись от станции к берегу и медленно скользя вдоль зарослей крыжовника, она все думает о сдавивших, сплющивших ее жестяных листах — и невольно улыбается. Вдруг заметив цветок на крыжовенной ветке — розовый, с пучком белых тычинок — она говорит кому-то невидимому или неявному, что нет-нет, ей совсем не хочется умереть, просто жить теперь незачем, жить — невозможно, почти неуместно, уместнее — не жить.
Она видит дом вдалеке: два этажа и чердак, окна ее комнаты смотрят на море, вода шумит у самой веранды, чуть в стороне две яблони. Сестра куда-то подевалась, отца тоже нет — да и быть не может: отец сейчас следит за стрелками, ждет, когда кончится уныние длиною в девять часов с перерывами на обед и нужду, чтобы запереть магазин и гнать велосипед в гору. Отец войдет в половине восьмого, плеснет портвейна в кружку и сядет в старое кресло на веранде; волна, если рассердится сильнее обычного, замочит носы его сапогов — но такое бывает редко. Каждый вечер отец вспоминает дни, когда был молодым, мечтает — Соня откуда-то знает об этом — уехать как можно дальше от моря: куда угодно, по большому счету.
Пока нет отца, пока нет сестры, Соня опять одна — кажется, будто ее тоже нет, будто веранда пуста. Метрах в ста, за небольшим заливом, такой же в точности дом — два этажа и так далее. Он обычно пустует — серый, ни единого огня — но сегодня ожил: незнакомая женщина развешивает белье на веранде. Соня пытается разглядеть ее лицо — такое новое, и движения ее тоже новые, и белье — наволочки, маечки, сорочки — все новое и потому кажется Соне надежнее ее собственных движений и маечек. Сколько она уже стоит так, глядя через залив, отказываясь жалеть себя и все-таки жалея, Соня не знает; еле слышно дребезжит велосипедный звонок — отец на спуске сигналит курам.
Читать дальше