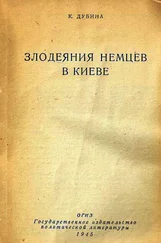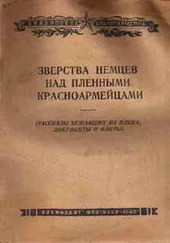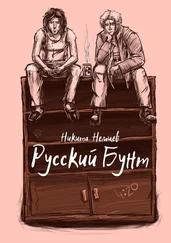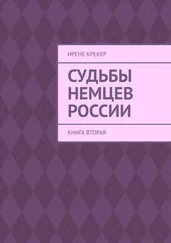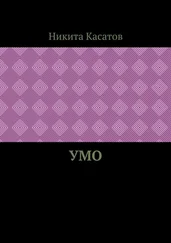Отпахав, он поехал к Пустопорожневу на улицу Красного Маяка. Идти туда удобнее от «Пражской», — а Ноликов всё равно любил ехать до «Новоясеневской» и идти Битцевским парком: уверял, что так быстрее. Пустопорожнев кивал, соглашался — хотя вообще-то не верил.
Зонтики уже распустились, — но тут ни одного. Темень изрядная, но листопад всё-таки застал: валятся задумчиво — будто по делам полетели. Нога довольно чавкает по размытой тропке, втоптанные насмерть листья уже не отваживаются шелестеть. Здесь покойно, здесь нет ипотеки, филологии и сомнений. Небо чёрное до совершенства: фонари, раскланиваясь, освещают дорогу и жёлтую листву, к ней примостившуюся. Пахнет прелым листом: кажется, в детстве были конфеты с таким вкусом.
Но ни листьев, ни тропы, ни деревьев — Ноликов уже не наблюдал. Идя прогалиной, он понимал, что луна плюнула на всё и убежала с какой-то тучей, а фонари взбунтовались и пошли в кабак. От черноты не спасали никакие очки. Ноликов знал, что тут у городской управы деньги кончились, а вместе с ними свет, — и всё равно — как в первый раз — был ошеломлён беспомощностью глаза. Не видя ничего, едва угадывая смутные силуэты расступающихся кустов и нависающих деревьев, — глаз додумывал.
Да вот же дорожка! А, это овраг… Там коляска, что ли? Фух! Коряга. Сзади кто-то есть! Ноликов обернулся и выхватил зонтик, чтобы отбиваться. Нет. Никого. Нет.
Кажется, всякий раз, идя к Пустопорожневу, Ноликов знал, что будет бояться, как последняя дура, — но упорно шёл по этой тропе.
Раздвигал ветки перед собой и вспоминал Люсю. А какая красавица была!.. Ветер шевельнулся, невидимые листья, должно быть, затрепетали. Когда Ноликов собирался признаваться Люсе в любви, он где-то вычитал у Борхеса, что робкий человек, решаясь, должен представить, что всё уже совершилось. Ноликов и представил: как он признался, как они поцеловались, как они поженились, как они сына родили, как его похоронили, как Люся заболела, как Люся умерла, как он на другой женился, как он умер сам… Признаваться сразу расхотелось. Тогда он увидел, что момент встаёт, разворачивается и уходит… Ноликов представил себе, что времени вообще не существует, — и сказал.
Цивилизация замаячила из-за ветвей какими-то усталыми огнями. Шум машин и лай собак обрадовали Ноликова. И вот: безумно высокий дом, в котором ровно тридцать этажей… Ему туда.
Жена Пустопорожнева готовила — из кухни раздавались пар и суета. Она вышла поздороваться с Ноликовым и, утирая руки полотенчиком, задала пару безразличных вопросов. Пустопорожнев — всё в том же пиджаке — стоял, раздражённо стиснув зубы на один бок.
Наконец его жена ушла, и они с Ноликовым проследовали в кабинет.
Как само собой разумеющееся, Пустопорожнев взялся ходить от полки к полке, пристально вглядываясь в переплёты, часто безымянные. Одним он улыбался, другие снимал и поглаживал. Кажется, его это успокаивало.
Шкафы высились до потолка и съедали всё пространство. Ноликов тоже ходил и вглядывался, но не решался трогать. Прижизненный Блок, прижизненный Шопенгауэр, богословские и медицинские трактаты… Если Ноликов ничего не путал, в этой библиотеке была даже Рукопись Войнича (Ноликов и сам был чуть-чуть библиофил, но скорее теоретик: денег-то нет).
— А профессора-то наши — настоящие развалины, — бросил вдруг Ноликов, чтобы перестать молчать.
— Вы мягко выражаетесь. Мне кажется, конференцию следовало бы назвать «Сало, мёд, говно и пчёлы».
Пустопорожнев попробовал рассмеяться, но раскашлялся.
Опять замолчали.
— И осень такая хорошая… — не сдавался Ноликов.
— Что?.. Осень? Довольно скверна, как по мне.
Пустопорожнев мялся и не мог на что-то решиться. Он причмокивал, протирал очки, хмыкал и что-то копался: казалось, он готов разодрать одежды. Наконец, он молча вытащил из ящика книгу шириною в две ладони, волнистую страницами, с чёрным — заскорузлой кожи — переплётом, и небрежно хлопнул ею по столу.
Пыль пустилась в свободное странствие. Ноликов чихнул.
— Что это? — спросил он, утирая нос.
— Библия.
— Краси-и-ивая… — Ноликов уже листал страницы с непривычно широкими полями.
— Ещё бы не красивая. Её Гутенберг сделал. — Пустопорожнев опять взялся расхаживать, ни на что особо не глядя. — Теперь вы понимаете? Мне её тот прохиндэй из Румянцевки продал — пришлось жене в машине отказать. Я же не знал, что она из спецхрана! Я сегодня справки наводил: всё так, правда украли. Но я же не знал! Одно дело у Ересева «Арифметику» Магницкого умыкнуть, — а другое из спецхрана! — Как бы сказав самое страшное, Пустопорожнев лихорадочно договаривал. — Да, да, я воровал книги у своих коллег — и что? Тьфу они, а не коллеги! К тому же я не считаю, что воровать — это плохо. Я считаю, что воровать — это нормально. Да! А вы, любезный, думали, чем у нас филологи, хе-хе, промышляют, хе-хе? Если не украдут — так придумают такой вздор, что автор в гробу верёвку с мылом запросит! Вы знаете, какие два единственные слова может сказать филолог, если на минуту честно откажется от вранья? «Не знаю!» Хе-хе-хе! Фантазия и воровство — вот вам вся филология! На целую кафедру — один настоящий учёный: Единицын. Да и тот с горбом! Да что я хвастаю как будто? Не хочу, нет! Я сам докторскую сдул!..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу