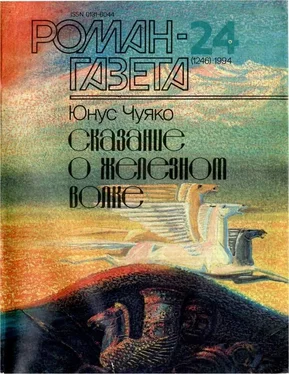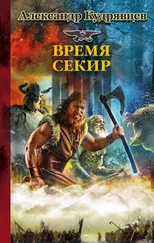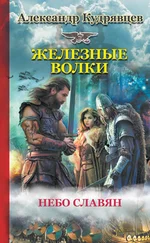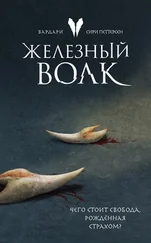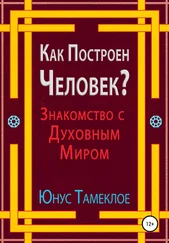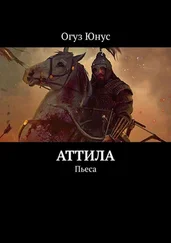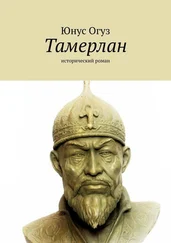* * *
Итак, 21-го февраля, отряд должен был оставаться на месте; в окрестности лагеря назначено движение тремя колоннами, для уничтожения туземных жилищ. Первая колонна, подполковника Клюки-фон-Клугенау — 13 рот и две сотни казаков; вторая, майора Щелкачева — семь рот с дивизионом драгунов и милицией; третья, майора Попова-Азотова — одиннадцать рот. Первые две переправились через Туапсе и пошли по ущельям правых притоков; третья направлена в ущелья левого берега. Им кстати велено запастись фуражем. Уже две недели как лошади в отряде не видели сена. У артиллеристов и драгунов еще оставалось немного овса: офицерским и казенно-подъемным лошадям приходилось кормиться полусгнившими папоротниками, снятыми с крыш горских саклей. Кто на фуражировке найдет связку соломы, считает себя особенно счастливым. Сожжено несколько десятков аулов, и фуражиры привезли скудный корм для коней.
Потери в войсках не было.
Вечером 21-го числа снова приехали к генералу Гейману старшины, прося подтверждения вчера данного срока и обещая впредь строго следить за точным соблюдением обещания. Действительно, ночью на 22-е число уже не стреляли по лагерю.
* * *
«Завтрашний день дойдем до моря», — было только и разговора в отряде весь вечер 22-го числа. Завтрашнего дня все ожидали с нетерпением. «И что это такое за море?» — спрашивали солдаты своих товарищей. «Слыхать слыхал, а видать никогда не видал», — отвечали большей частью. «И как это воды столько, что конца ей не видно?» — возражали иные. Да и как было не интересоваться морем! Большинство, не только нижних чинов, но и офицеров в отряде, никогда не бывало на берегу моря. Но не столько новость предмета всех занимала, как каждому хотелось освободиться от тяжелого, давящего вас, если так можно выразиться, влияния гор. Уже столько времени даховский отряд находился безвыходно в горах. Куда не оглянешься, крутые, суровые свесы, глубокие обрывы, глухие ущелья, замкнутые со всех сторон котловины. Не верилось, что перед нами представится ровное, безграничное, отовсюду открытое пространство. Море в умах всех представлялось чем-то заветным, казалось, с достижением его, будет положен конец всем бедствиям, сопряженным с горным походом.
* * *
Ночлег с 22-го на 23-е февраля был уже в той прибрежной полосе, где снегу почти не бывает. Бивуак первой колонны помещался в котловине, представлявшей собою один большой сплошной сад, с множеством ореховых и других фруктовых деревьев. На рассвете, когда пробили генерал-марш, все было подернуто легкой изморозью. Батальоны собрались и выстроились как-то особенно скоро. Вьюки также на этот раз не заставили дожидаться. На лицах всех можно было прочесть если не радость, то по крайней мере полное спокойствие и удовольствие. Видно было, что настоящий переход выдается из прочих.
* * *
Еще рано поутру человек тридцать почетных шапсугских старшин, в парадных одеждах и на лучших своих конях, выехали навстречу. Они были представлены генералом графу и, следуя все время потом в конвое начальника отряда, сами показывали дорогу. С детским любопытством разглядывали недавние наши враги теперешних спутников.
Но вот наконец сделан последний поворот по ущелью и завиделось вдали давно желаемое море. Горы не позволяли раскрыться разом большому пространству: сначала показалась только частица в глубине длинного ущелья Туапсе. Все вдруг повеселели; начальник отряда въехал на ближайший бугор и остановился подождать батальоны. За ним последовал штаб, и один за другим поздравили генерала с занятием моря, а друг друга с совершением события, которого все ожидали с нетерпением. Это была одна из минут, которые забываются нескоро. Небольшой, в ту пору, штаб, составленный исключительно из коренных чинов даховского отряда, испытывал как бы семейное, домашнее празднество. Многие прослезились; все искренно сочувствовали делу. «Так вот наконец к морю пришли», — сказал начальник отряда. «Мы не сами пришли, а вы нас привели», — отозвался кто-то. Шапсугские старшины, видя всю эту сцену, слезли с лошадей и, подойдя к генералу, протягивали руки и так же поздравляли. «С чем же вы-то поздравляете?» — возразил он. «Нам приятно, что ты, а не кто другой пришел к нам первый», — отвечали шапсуги. Подошел головной, севастопольский стрелковый батальон. Перед каждой ротой были впереди песенники. Звонкая русская песня, с бубнами и кларнетами, раздавалась по ущелью Туапсе. При виде моря громкое «ура!» заглушило звуки и полетели вверх папахи. Радость была общая, непритворная.
Читать дальше