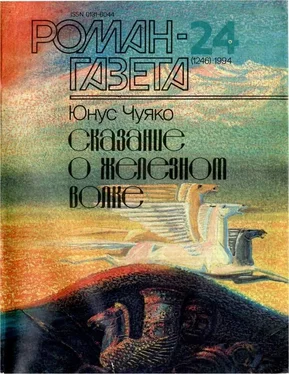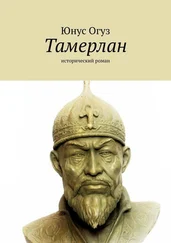Вы должны признать подданство русского царя, но это не лишит вас самобытности: будете жить и управляться по своим адатам, сохраните неприкосновенность религии, никто не будет вмешиваться в ваши дела».
Над понурым, давно потерявшим цвет полем из конца в конец носились то припадающие совсем низко к подсолнухам, а то скачками взмывающие вверх серые воробьиные стаи, но они не оживляли его — придавали сиротства.
Россия не могла позволить себе отступления: слишком далеко все зашло. Уже два века жила к тому времени под ее защитой христианская Грузия, к России жались единоверцы армяне и осетины, за полудружеской, так полностью и не поддавшейся исламу Кабардой, среди чеченцев, как на острие ножа, продолжали селиться гребенские да терские казаки… Не стесненное природными границами врастание друг в дружку длилось тут уже половину, если не все тысячелетие… при чем тут, и правда, эти — сидящая на своем дальнем острове, но распустившая щупальца по всему миру Англия и таскающая для нее каштаны из огня заморская Турция?
Но как, как должно было поступить им, нам всем, чтобы душевный мой друг не глядел сейчас с тоской в ту сторону, где за перевалом, ведущим в Абхазию, плескалось Черное море и откуда вновь неслись выстрелы… Отголоски той войны? Или всего лишь — ее продолжение? Или начало так старательно разжигаемой новой: доселе еще невиданной?
«Царское слово крепкое, и я торжественно заявляю, что эти мои слова тоже будут святы и нерушимы».
Это говорилось глаза в глаза.
Но поверили приносившим слухи чужеземным лазутчикам…
Солнце над нами словно прибавило света — раздвинулась осенняя даль, ярче стала и выше сделалась прозрачная, без единого облачка синь. Неизвестно откуда в душе явилось предчувствие тонкого журавлиного клика, и я невольно задрал голову: пролетят в самом деле?.. Или над этими долинами всегда чуть слышно звучат похожие на журавлиный клик тревожные голоса покинувших родину махаджиров?
Странно вообще-то: в дни стотридцатилетия окончания Кавказской войны никто потом в Москве не написал об этой поляне, никто не вспоминал об этой встрече — пожалуй, и в самом деле предначертавшей грозный ход мировой истории.
Конечно же? этот мемориальный, как бы сказали нынче, комплекс — окаймленный стволами замолкших, скованных его высочайшею волей пушек, бюст императора и часовня за ним — должен был воплощать в себе военную и духовную мощь единой и неделимой России… Где это нынче все?
Черкесы слишком хорошо понимали, что именно стоит показать денно и нощно ищущему над Кавказом власти русскому царю и выбрали для этого удивительное место, которому, убежден, еще предстоит стать одним из центров паломничества… Есть на земле такие точки, откуда далеко видать не только в смысле географическом. Черкесские старейшины, назначавшие встречу императору именно здесь независимо от исхода переговоров, одним только своим выбором, завещали это место всем будущим насельникам: для размышлений о вечной красоте мира и непрочности бытия человеческого.
…В нем было много символов, и кто-то нынче находил бы в памятнике одно, другой — иное.
Но среди прочих, не сомневаюсь, был бы и этот: каменная твердость черкесского характера. Отвага.
Которых так пока не хватает тихо распродающей себя нынче России.
Гарий НЕМЧЕНКО
В. Распутин
КАК ДОЛЖНО В НАШЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ СВОЙ НАРОД
В этой книге, в сущности, нет сюжета, той событийной канвы, того остова, который обрастает художественной плотью и являет законченную каноническую фигуру романа. Читатель, встречаясь с такой «законченной фигурой», чувствует себя спокойно: если она интересна, умна, духовно богата — он наслаждается ею, испытывает эстетические чувства от общения, испытывает и нравственное удовольствие от красоты поступков. Если же она неинтересна — знакомство всегда можно прервать. Но в любом случае у читателя складывается свой «физический» образ романа, который с чего-то начинается, проживает за определенный отрезок времени определенную последовательную жизнь и во имя какой-то морали, какого-то нравственного урока заканчивается.
В романе, который теперь перед вами, многое не так. Начинаясь, «как положено», с завязки, с приезда в адыгейский аул ленинградского ученого-археолога и его студента, уроженца этого аула, на раскопки кургана, который в скором времени уйдет на дно очередного рукотворного моря, они получают анонимное предупреждение: коснетесь священного кургана — вам несдобровать. Начало — лучше некуда для принятой ныне литературы. Однако этим его остросюжетность, да и вообще сюжетность в строгом смысле, и заканчивается. Вольно или невольно это случилось, не берусь судить (да это не так и важно), но, начав повествование о жизни одного аула своего народа, о жизни, как принято говорить, на крутом ее изгибе, автор отдался этой жизни без всяких литературных правил и повел ее быстро, взахлеб, в каком-то выверенном беспорядке и подкупающей небрежности, словно от начала и до конца боясь, что ему почему-либо не дадут дорассказать, и все же успевая и умея говорить и вдохновенно, и подробно, и точно, и красиво. Это одновременно и прерывистое, и мощное повествование, трагическое и радостное, печальное и счастливое, историческое и современное, локальное и масштабное; оно все соткано из легенд, сказок, песен, традиций, обычаев и устоев народа, из поверий, сказаний, примет и «родимых пятен» его; язык романа — звуковой, интонационный, «слышимый»; герои — не столько действуют, сколько являют себя, создают строй ликов, рисующих вечное и живое чело нации.
Читать дальше