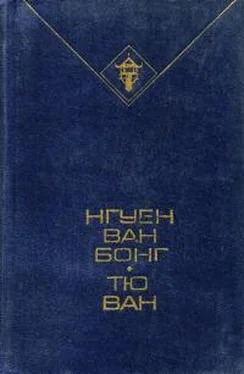Губы ее чуть изогнулись в улыбке, она глядела мне в лицо, явно надеясь вывести меня из себя. Ждала, вот-вот прорвутся наружу злоба, презрение, ярость. Но я, улыбнувшись, сказал спокойно:
— Знаешь, мне хочется нарисовать тебя.
Она опешила. Словно не расслышала, не поняла, о чем я говорил. Потом вдруг кровь бросилась ей в лицо, глаза засверкали, рот искривился; казалось, рассудок изменил ей. Я оглянулся на сложенные в углу мольберт, папку с бумагой, коробки с карандашами и красками и повторил:
— Да, я хочу нарисовать тебя.
— Нарисовать?.. Меня? — голос ее срывался на крик: — Меня?! Рисовать меня?!
Она откинулась на спинку кресла, словно пытаясь отодвинуться от меня подальше, испугавшись, что я начну рисовать ее вот здесь, сейчас же, еще не пришедшую в себя после всего сказанного.
Я рассмеялся:
— У меня давно появилось желание написать твой портрет, да все мотался туда-сюда, не успел договориться с тобой. А сейчас… Не писать же тебя среди ночи. Отложим до следующего моего приезда. Договорились?
Она по-прежнему не отрывала от меня взгляд, словно все еще изумлялась, не верила…
— Буду писать твой портрет, — настаивал я, — и предаваться воспоминаниям…
Я вдруг разговорился, и чем дальше, тем больше захватывал меня собственный мой рассказ. Я как бы видел воочию Хоада, тамошнюю больницу, почту, песчаные дюны, ряды тамариндов… Лан тогда и на свет еще не родилась, да и сам я был малым несмышленышем. Я говорил, и словно живые вставали передо мной дядюшка и тетушка Ха: вон они — день и ночь гнут спину в своей больнице… Вон мой отец изо дня в день разносит почту по всему уезду… А вот и мама. Встает ни свет ни заря и торопится за рыбой в Фанрикыа. Поздняя ночь, катится по дороге повозка, лошадиные копыта высекают из булыжников искры, длинный кнут свистит над крышей повозки… Вот отец мой, проделав нелегкий путь из партизанской зоны, вызывает дядюшку Ха, и они — то ночью, то среди дня — встречаются тайком в дюнах, потом на лесной опушке… Я говорил о том, как погиб мой отец, как пытали в тюрьме дядюшку Ха… А ведь иные из тех, кто служили тогда у французов — солдатами, капралами, офицерами, вышли при янки в полковники и генералы…
Лан сидела и слушала, глядя мне в лицо. Мне стало казаться, будто она не видит меня, глаза ее застилали слезы. Вдруг она уронила голову на стол, и плечи ее задрожали. Сперва она плакала беззвучно, потом зарыдала в голос. Волненье ль душило ее, или то были пьяные слезы?.. Но, как бы там ни было, мог ли я видеть все это спокойно! Я встал, обогнул стол, присел на ручку ее кресла и, положив ладонь ей на плечо, стал утешать, успокаивать ее. Мне хотелось, чтобы она уверовала в свое будущее, неотделимое теперь от будущего страны, всех нас. Постепенно она перестала плакать. Потом подняла голову и взглянула на меня:
— Ты… ничего ты не знаешь! — судя по голосу, она все еще сердилась слегка. — Только не смейся надо мной…
Я легонько погладил ее по плечу.
— Слышишь, не вздумай смеяться, — продолжала она. — Я решила, нынче ночью расскажу тебе все… а потом… уйду из этой жизни! — Она понурилась и заговорила быстро, глотая слова: — Я и яд приготовила у себя в комнате, написала письмо маме, детям и тебе… Нет-нет, только не смейся!
Вдруг она снова уронила голову на стол, словно все внутри у нее оборвалось, рухнуло, рассыпалось в прах. Куда подевалось ее своенравие, упрямство? Передо мной была обыкновенная слабая женщина, достойная сожаления. Взяв Лан за подбородок, я поднял голову ее и произнес, глядя ей в глаза:
— Я никогда не буду смеяться над тобой, но и ты дай слово не затевать больше глупостей. Слышишь?
Усевшись снова в кресло, я увидал стоявшую посередине стола бутылку и, улыбнувшись, спросил:
— Может, выпьешь еще, осталось как раз две рюмки?..
— Нет, — покачала она головой, — пей сам.
Она смотрела на меня. Следы слез не высохли еще на ее лице, волосы растрепались, несколько прядей прилипло ко лбу. Она улыбнулась через силу и заговорила, пытаясь придать голосу веселое, кокетливое выражение, отчего показалась мне совсем уж несчастной.
— Ты, — спросила она, — и вправду счел меня пьянчужкой? — Опершись на ручки кресла, поднялась и сказала: — Я, пожалуй, пойду, а то ты еще не выспишься…
Повернулась и пошла к двери; походка у нее была легкая, как всегда, она даже не качнулась ни разу. Я убрал бутылку под стол, встал и, шагнув следом за Лан, открыл перед нею дверь. Густые клубы тумана, заползшие в галерею, окутали Лан.
Читать дальше