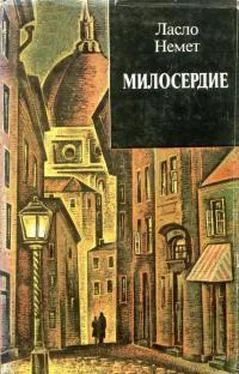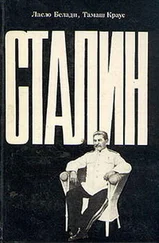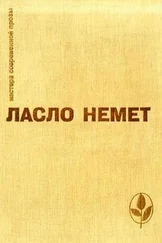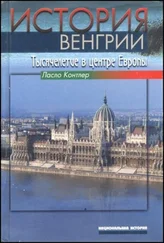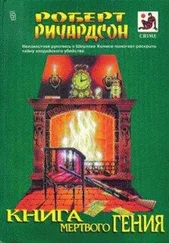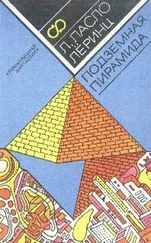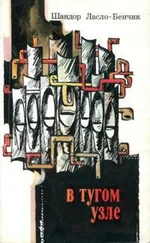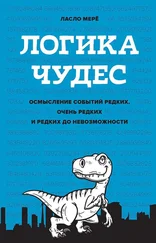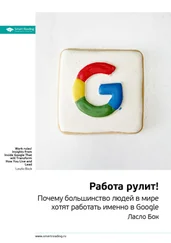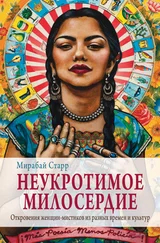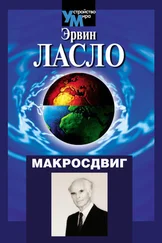Госпожа Кертес даже во время войны не походила на тех святош, которые, вспоминая погибшего или пропавшего без вести мужа, называли его не иначе как «бедный мой муженек», хотя, пока «муженек» был дома, разговаривали с ним совсем по-другому. Если ей приходила на память какая-нибудь скверная его черта или проступок по отношению к ней, то даже тысячи километров, их разделявшие, не мешали ей высказать о муже все, что она о нем думает; теперь, когда он оказался совсем близко, а через несколько дней будет дома, ее критические реакции, как видно, стали еще быстрее. «Не такой уж он был враг чревоугодия, — пыталась защитить отца Агнеш, которой в этих издавна знакомых упреках хотелось слышать не неприязнь, а забавный отзвук былых времен, когда они были вместе. — Когда он нас на экскурсию с Бёжике брал, всегда финики нам покупал: у больницы Святого Яноша торговка одна стояла — так вот у нее; и вообще без конфет даже в дорогу не отправлялся…» Но госпожу Кертес, чьи воспоминания складывались в систему под воздействием совсем иных, чем у дочери, чувств, не растрогала эта картина. «Ну конечно, я знаю, — сказала она, — его-то карманы всегда были карамелью набиты. Чтоб было чем угощать детишек. И медовыми пряниками, чтобы голос не сел, потому как ему в хоре петь надо. И леденцами от кашля — для лекций. Он-то сам все время сосал конфеты по каким-нибудь медицинским соображениям. А если я на твои именины заказывала торт безе, так он сразу: «Это еще что? Торт?!» Будто торт едят только последние негодяи. «Ну, может, чуть-чуть попробовать, что за вкус». И преспокойно съедает всю свою долю».
Агнеш рассмеялась. Ворчливые слова матери воскресили забытые сцены, так славно пахнущие детством. В том, что говорила мать, была известная доля правды. Госпожа Кертес сама лакомкой не была. Если в доме оказывались конфеты, она оставляла их детям; Агнеш скорее помнила случаи, когда мать иногда второй раз наполняла себе стакан из стеклянной фляжки с вином. Но она яростно отстаивала свое право съесть, если ей так захочется, хоть четыре-пять шоколадных пирожных, а то просто брала масла на кончике ножа, обмакивала его в соль и так лизала, без хлеба. «Опять извращения», — смотрел на нее в такие минуты отец. Он, особенно после того, как бросил курить, был куда большим сладкоежкой. И, как во многом другом, только делал вид, что совсем не таков. «Конечно, он — за умеренность», — саркастическим тоном говаривала госпожа Кертес. Она не способна была постичь то, что Агнеш почувствовала уже девочкой и что наблюдала с тех пор у очень многих мужчин: демонстративной воздержанностью своей, так же, как и терпением, с каким он обращался с женой, отец хотел подражать какому-то «идеалу», который, наверное, был идеалом не для него одного, а для многих в те времена; может быть, это был Ференц Деак [20] Деак Ференц (1803—1876) — венгерский государственный деятель, идеолог умеренного прогресса, один из отцов Соглашения 1867 г., когда была создана двуединая Австро-Венгерская монархия. Его называли «мудростью родины».
или кто-то еще — один бог знает, кто мог повлиять на умы настолько, что в последние два-три десятилетия прошлого века множество людей — учителя, юристы, врачи и в их числе крестьянский сын из Тюкрёша — моделировали себя по его образу и подобию, неся голову с высоким лбом как зерцало мудрости и спокойствия. В гимназии Андрашши у Агнеш тоже был один такой преподаватель — непонятый, обойденный ученый, который даже написал курс эстетики (это ради него Агнеш хотела стать искусствоведом); кстати, нынешний ее профессор фармакологии тоже словно бы все у того же самого идеала, примешав к нему чуточку английского аристократизма, позаимствовал четкие жесты, с помощью которых создавал собственный образ, излучающий с кафедры принципиальность и точность. Это было примерно то же самое, как если бы аморфному материалу придали кристаллическую структуру: человек в каждом своем поступке видел одно неизменное преломление, и это было прекрасно, это создавало ощущение надежности. Госпожу же Кертес, как видно, именно эта упорядоченность раздражала сильнее всего. Ее послушная инстинктам натура воспринимала любую самодисциплину как ложь. Она видела лишь, что муж тоже любит конфеты, но утверждает, будто сладкое любить стыдно. «Война, думаю, и его научила быть терпимее к людям. Вряд ли он таким же принципиальным остался», — сказала Агнеш; она знала, что иной раз пустые предположения способны сильнее влиять на мать — озлобляя ее или настраивая примирительно, — чем очевидность, и, чтобы чуть-чуть расположить ее к отцу, готова была в виде исключения даже душой покривить. «Мне он пусть не пытается насчет воздержанности проповеди читать, — в самом деле сбавила та, наполовину уже успокоившись, непримиримость своего тона. — Я за семь лет по горло его воздержанностью насытилась. — И, видя, что Агнеш не берет остальные орехи, подтолкнула к ней банку: — Ешь давай, ешь, а не то я сама съем. — И длинными своими пальцами действительно достала один орех. — Не бойся, он тоже с голоду не умрет».
Читать дальше