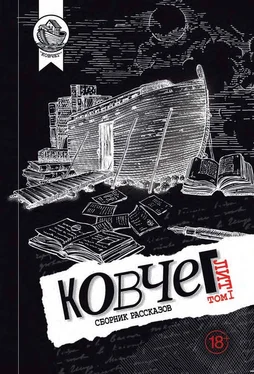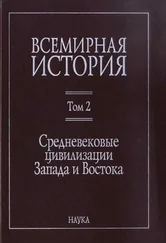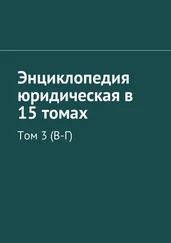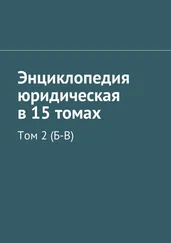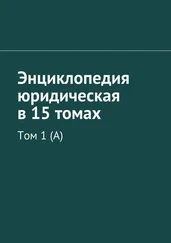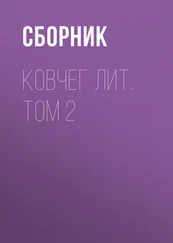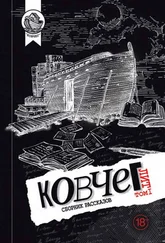Возможно, именно тогда и началось это «исчезновение», которого мы еще не осознавали и, как жуки-рогачи, перевернутые на спину, продолжали шевелить лапками в поисках опоры.
Я записывался в различные кружки, бросал и снова записывался, запойно читал книги о войне, которая после смерти хромого Кеши как-то сразу приблизилась вплотную. Особенно когда в коробке на шкафу нашел губную гармошку с надписью «Hohner».
У хохнера был щемящий звук исчезновения, который просто выворачивал душу.
На этом хохнере играл младший брат мамы — дядя Вася, который 8 марта 1944 года геройски погиб, спасая город от исчезновения, но бабушка даже не захотела получать его посмертный орден («Славы» третьей степени).
От этого исчезновения и бежала Светка, чтобы, как в песне хромого Кеши, не повторить судьбу той «девушки из Нагасаки».
Она уехала, не попрощавшись, наперед зная, что не вернется уже никогда.
Потом незаметно исчезли братья Зоричи, словно их и не было в нашем прошлом, которое все быстрее начинало исчезать. Даже, казалось, время уплотнилось до предела, за которым вот-вот должно было случиться самое ужасное.
Об этом почти каждый вечер прокуренным голосом вещал соседский дед Трохим, который приходил с переписанной от руки книгой без начала и конца.
Раньше он делал козьи ноги из газеты, а в последнее время перешел на свою книгу, скручивая козьи ноги из прочитанных страниц, которые больше в жизни не понадобятся.
Дед обычно уходил спать, так как после тюрьмы не верил ни в кого и ни во что и не выносил дыма. Ко мне в комнату с дымом проникали лишь отдельные слова, пустоты между которыми провисали страшнее слов: «…близок день… и очень поспешает… и горько возопиет тогда и самый храбрый… година народов наступает… година народов наступает… година народов…»
Это «наступление годины (или «гадины», как тут же переиначивалось в темноте) народов» первым почувствовал Ильин, который забегал к отцу теперь реже, говорил меньше, нетерпеливо постукивая пальцами по своему видавшему виды чемоданчику.
Он принес те самые часы, которые показывали время задом наперед. И сейчас эти часы вдруг остановились, что у древних считалось дурным знаком («Время останавливается для умерших»), а он, Ильин, пока жив, доказывает, что времени нет… в чем он, собственно, никогда и не сомневался. Особенно когда действительность начинает меняться быстрее мысли, которая с какого-то момента становится просто не нужна:
— Всякому улучшению всегда предшествует ухудшение, — лишь сказал, словно в утешение.
Но отец его понял. Даже по привычке не стал подносить часы к уху. Всего на секунду-другую задержал в руке, словно взвешивая. Возможно, ту самую плотность времени, на которую часы не были рассчитаны. Потому и остановились.
А запчасти и в самом деле начинали заканчиваться. Их все труднее становилось доставать. Моих запасов хватило лишь на приставку на лампе 6п3с, на которой тогда «работали» все радиохулиганы нашего города.
Если такую приставку подключить к приемнику, то приемник превращался в домашнюю радиостанцию, и можно было объявить о своем существовании на весь мир: «Всем свободным, здесь «Кирпич»… кто слышит, прием… Всем свободным…»
Но «Кирпич» был от меня далеко, и моя приставка до него не дотягивала. Позывной «Зеленый глаз» советовал усилить ее лампами ГУ‐50 и Г‐80, которые было не достать.
Зато «Директор кладбища» и «Золотой паук» были где-то рядом. Это можно было понять по качеству звучания. Они гоняли музыку по заявкам любимых девушек, имена которых, как боги, соединяли с именами звезд — «Beatles», «Deep Purple» и Высоцкого.
И только посвященные знали, что «боги» управляют звездами со специальных устройств под названием «шарманки».
Я тоже хотел стать таким «богом», но долго не мог выбрать позывной, так как лучшие позывные были уже заняты «Директором кладбища» и «Золотым пауком». А тут нам в кружке рисования дали задание нарисовать «губы Давида». Это был подарок судьбы — лучшего позывного не придумать. Словно уже слышал сквозь помехи и могучее дыхание эфира: «Всем свободным!.. Всем свободным!.. Здесь «губы Давида»… Кто слышит, прием…»
Но кто такой этот «Давид», я не знал, и остальные не знали тоже. А спросить у похожего на Пушкина учителя, Семена Алексеевича, было как-то неудобно, словно от того, кому принадлежали эти губы, будет зависеть, как мы их будем рисовать.
Я даже вначале думал, что за «губами Давида» мы перейдем к носу и остальным частям гипсовой головы, которую учитель прятал от нас под чехлом на шкафу, чтобы раньше времени не смущать разум. Но под чехлом оказались совсем другие губы и голова, которую я узнал сразу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу