Глаза хористов полузакрыты. То ли спят, то ли размечтались. Им грезятся руки-обрубки. Виселица. Газовые камеры. И все роскошество – исключительно для меня, любимого… Ясновидение определяет творчество…
Дирижер взмахнул палочкой:
– По Африке бродила большая кррракадила!
– Она! Она голодная была! – подхватил хор.
А потом гроб засыпали желтоватой и каменистой родной землей.
Стелла Исааковна, дама, накрашенная отваливающейся от щек линялой краской, возвышалась статуей над маленьким, едва живым мертвецом, некогда Рыжим, а теперь бритоголовым Математиком. Несколько поодаль стояла оставшаяся без работы Фаня Исааковна, скрестив на груди тоскливые, нервные руки.
Они были печальны, как ночные страшные бабочки.
4
Моя мама в темноте бьется головой о стены.
Так она ищет правильный путь. Она никогда не зажигает свет – экономит электричество. Казалось бы, проще простого – хоть палкой найти дверной проем. Конечно, проще простого – если тебе не девяносто. Она пробует головой стены и так ищет дверь в туалет, на кухню, в мою комнату.
Она поехала со мной в Израиль, думая, что это Украина или Белоруссия, ну уж, по крайности Москва, где можно хотя бы наблюдать, не вынесут ли ненароком Ленина из Мавзолея. В последний раз в Москве она была лет пятьдесят тому. После ухода на пенсию (более четверти века назад) не летала на самолетах, не ездила на поездах, да и из дому выходила редко. Она читала и читала газеты, что-то подчеркивала, что-то выписывала. По телевидению – только программу «Время». По радио – только «Последние известия» и «Новости». Перестройка оглушила ее. Ей показалось, не то Колчак, не то Петлюра, не то Гитлер все-таки взяли Москву. Каждую газетную статью против Ленина она воспринимала как личное оскорбление. После каждой бранной статьи о партии – пила валерьянку. Когда я ей сказал, что нет уже ни Советского Союза, ни партии – она раскрыла большие глаза и долго молча печально глядела на меня.
– Да, – философски заметила она, – я знала, что может быть еще хуже…
Она как в воду смотрела. С тех пор даже забыла мое имя, а стала называть меня невнятным словом, в котором слышались звуки «Б… Л… Г…». Возможно, «белогвардеец». Или, как сказал умничка Веничка Ерофеев: «дебилогвардеец». Вообще, она как-то сразу забыла все имена. Мужа своего, известного художника, погибшего в войну, имя горячо любимой сестры, которую однажды сбил автомобиль, и мама вдруг стала странно заикаться: «Б… Л… Г…» Она забыла имена моих жен (правда, их запомнить – надо обладать незаурядной памятью). Она только помнила, что внуки ее должны быть в Израиле (их, скорее всего, увезли мои жены) и что она не может умереть, не увидав их. И хотя внуков у нее никогда не было, как и у меня детей, она стала проситься в Израиль, сильно подозревая, что Израиль – просто пригород Киева или Минска, в крайнем случае Москвы.
И вот однажды, после трех десятков лет с маминой последней поездки, я посадил ее на поезд. Поскольку одно купе отвели под вещи, другое было переполнено. Было душно и полутемно. Мы ехали в Бухарест. Уже через два часа езды зашли таможенники, а потом пограничники. И мама прижала к груди чемоданчик, которым дорожила больше всего. Но и таможенники, и пограничники смотрели только на этот чемоданчик. Один из них как-то неловко пнул старуху, она ойкнула, чемоданчик рассыпался, и выпорхнули оттуда почетные государственные награды, старые фотографии, оставшийся от мужа рисунок – ее портрет, карандашный набросок да партбилет в корочках, на который парень не обратил никакого внимания, иначе б потребовал за провоз документов…
Потом были таможенники с румынской стороны, тех быстро утихомирили: пассажиры скинулись по бутылке водки на румынского брата. Уже в Бухаресте маму посадили на тележку поверх чужих чемоданов и повезли по платформе тоже как вещь, но уже совсем лишнюю, незастрахованную, за потерю которой отвечать не придется, так что рабочий буркнул что-то вроде: «Перегруз». И ему пришлось дать бутылку…
Поселились мы в специально отведенной для репатриантов гостинице. С матерью в одном номере. Там-то она впервые и стала опробовать головой стены. Поднималась ночью и стучала…
Потом спрашивала меня:
– Это Киев? Тогда надо звонить Михаилу.
Михаил – это ее двоюродный брат, из Киева давно выехавший в Америку. Про то, что он уехал, ма-ма, конечно, забыла, а про то, что жил в Киеве, помнила.
По случаю первомайских праздников не было самолета, и мама трое суток билась по ночам головой о стены. С самолетом же было и того хуже. Еле втащил. Когда стали раздавать обед, она даже не притронулась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
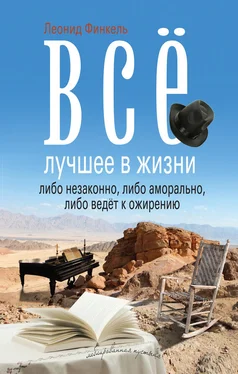

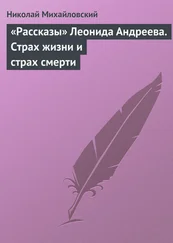
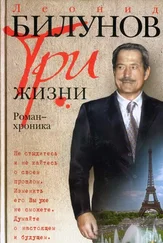





![Леонид Финкель - Всё лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению [Авторский сборник]](/books/403704/leonid-finkel-vse-luchshee-v-zhizni-libo-nezakonno-thumb.webp)


