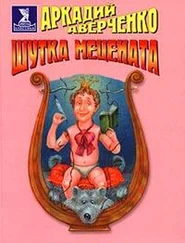Теперь нам предстояло играть в лошадку. Пыхтя и постанывая, я должен был встать на четвереньки. Марио влез мне на спину, уселся верхом и, придерживая меня за джемпер, тоном знатока произносил: «Шагом! Рысью! Галопом!» Если я выполнял его команды недостаточно быстро, он колотил меня пятками по ребрам и кричал: «Я сказал: галопом, ты что, глухой?» Я действительно был глухой, а еще усталый и ослабевший до такой степени, что он и вообразить себе не мог. Несмотря на свой богатейший словарный запас, он мог быть и грубым, и сейчас начал обращаться со мной так, словно я и вправду был лошадью, и стал называть меня не дедушкой, а Молнией – эту кличку ему, разумеется, подсказал Саверио. Но молнией был он сам, весь его организм наполняла неконтролируемая энергия, жизненная сила в чистом виде, которая не передавалась моему изношенному телу; от каждого движения у меня болели запястья, колени, ребра. И все же я согласился сделать с ним круг по квартире, прополз на четвереньках по коридору, по кабинету Бетты, по гостиной, прихожей, каморке Саверио и, наконец, вернулся в нашу комнату, где осталась открытой дверь на балкон и царил холод. А я был как в огне: кровь от конечностей текла по венам к сердцу, словно раскаленная лава, я обливался потом сильнее, чем это бывало, когда я внезапно просыпался по ночам. Если в теле Марио физические и химические процессы происходили с торжествующей быстротой и точностью, то у меня они протекали уныло, медленно и с погрешностями, которых становилось все больше, как в работах ленивых студентов. Я схватил мальчика за плечо и стащил его с себя, а то вдруг он захочет покататься еще.
– Лошадка устала, – прохрипел я.
– Нет.
– Лошадка совсем устала.
Я сгрузил его на пол и улегся рядом на холодных как лед плитках.
– Сейчас нам надо передохнуть.
– А мне не надо, дедушка! Сделаем еще круг.
– И речи быть не может.
– Папа делает пять кругов.
– А я смог сделать один, и хватит с тебя.
– Ну пожалуйста.
– Мне надо работать.
– А я?
– А у тебя есть игрушки, сиди тут и играй.
– А можно я перенесу игрушки в комнату, где ты работаешь?
– Нет, ты будешь меня отвлекать.
– Ты плохой.
– Да, я очень плохой.
– Я скажу это маме.
– Твоя мама уже это знает.
– Тогда скажу папе.
– Говори кому хочешь.
– Мой папа тебя стукнет.
– Если я скажу твоему папе «бу-у», он обкакается.
– Скажи это еще раз.
– Бу-у!
– Нет, то, что было дальше.
– Он обкакается.
Марио засмеялся:
– Еще раз.
– Он обкакается.
Марио залился смехом, и смеялся долго, самозабвенно, с наслаждением. А я сначала сел на пол, затем, опираясь о край кровати, медленно встал. Пот на груди и на спине застыл, и теперь мне было холодно. Я пошел закрывать балконную дверь.
– Дедушка, еще раз, – попросил Марио, глядя на меня снизу вверх.
– Что?
– Скажи «он обкакается».
– Нельзя говорить такие слова.
– Но ты ведь сказал.
– Я сказал «обкакается»?
Он опять расхохотался, выкрикивая «Да, да, да!».
Это безудержное, стихийное ликование, широко раскрытый рот с крошечными зубками глубоко поразили, почти испугали меня. Я позавидовал этой неуправляемости лица и глотки. Смеялся ли я так когда-нибудь? Не знаю; во всяком случае, не помню. Какая мощь была заключена в этой способности смеяться над пустяком – и в то же время над чем-то очень важным. Он смеялся над грубыми словами, сказанными о его отце, и, как мне показалось, смеялся совершенно искренне, без ощущения неловкости. Он пробежался по комнате. Скользнул взглядом по своим рисункам, развешанным на стенах, – повсюду были изображены человечки на зеленых лужайках и непонятные завитушки.
– Они тебе нравятся? – спросил он.
– Слишком светлые, – ответил я. И начал сбрасывать на пол одну за другой все игрушки, которые Салли в идеальном порядке расставила на столах и шкафчиках. Затем взял коробку с играми и высыпал все ее содержимое на пол перед Марио, раскрывшим рот от изумления. Все эти мелкие вещицы падали вокруг него и отскакивали от пола, будто танцуя. Я помахал ему рукой и сказал:
– Развлекайся.
Марио испуганно уставился на меня, покраснел.
– Я один не развлекаюсь, – сердито произнес он.
– А я – да. И смотри не мешай мне, а то будут неприятности.
4
Но мне было не до развлечений. Игра с Марио не только вымотала меня физически, но еще и забрала силу у образов, которые, как мне казалось, нужно было срочно закрепить на бумаге. Мелькнув перед моим внутренним взглядом, они перестали быть неправдоподобными и от этого утратили свою прелесть. И сейчас, словно больные зверьки, пребывали в немом и тупом ожидании выздоровления либо смерти. А мысль о том, чтобы выследить их и попытаться вытащить из небытия мгновенно прочерченной линией, мысль, пришедшая мне в голову при виде рисунка, на который указал Марио, постепенно угасала. Я смог вывести на листе лишь несколько вымученных, скучных линий, надеясь, что вдохновение скоро вернется.
Читать дальше
![Доменико Старноне Шутка [litres] обложка книги](/books/403061/domeniko-starnone-shutka-litres-cover.webp)