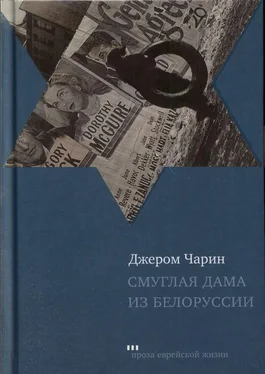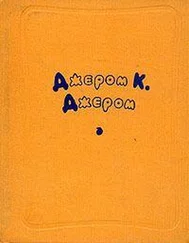Дарси прозвал меня шерифом — дескать, я охраняю Фейгеле. Однако мама в охране не нуждалась. Я восседал на высоком стуле с приставленной к нему лесенкой — залезать и слезать, когда захочу. Лопал картофельные чипсы. Отвечал вместо Дарси на телефонные звонки. Распечатывал новые колоды, разрывая целлофан зубами, а мама тем временем курила сигареты, одну за другой, и напряженным взглядом темных глаз следила за игрой. Бывало, даже шлепала кого-нибудь по руке.
— Не подглядывайте к соседу, судья Джон.
Никто ей не перечил, никто не бурчал. Игрой заправляла Фейгеле. И вскоре за ее покерным столом стало не протолкнуться. Ей всегда оставляли чаевые, всегда делали щедрые подношения. В мои обязанности входило собирать рулоны пяти- и десятидолларовых банкнот и складывать их в карман рубашки. В ту вторую военную зиму мы почти разбогатели. Сержант Сэм со своим поврежденным пальцем мог сидеть дома. Теперь мы не зависели от его жалованья.
Мама стала подельницей Чика. Больше заниматься его товаром было некому. Прямиком из-за карточного стола она на черном лимузине районного главы ехала в «Суровые орлы» и там командовала Чиковыми верблюдами (сплошь домохозяйками и меховщиками на пенсии): говорила, что и куда относить. Повар приготовил полдник, положил его в коробку, и она отправилась с ним в «Ливанские кедры», а Малыш шагал рядом. Я — в одной из обувных коробок Дарси — пронес в больницу миниатюрные бутылочки шампанского.
Мамин спекулянт почти уже выздоровел. С носа и челюсти сняли повязки. Синяки под глазами едва зеленели. Лишь на губе оставался тонкий шрам. Мы зашли к Чику в палату, закрыли дверь и уселись на кровать. Я откупорил шампанское. Ели икру, похожую на пунцовые косточки яблока-китайки. Мама подогрела на калорифере блины. Еще у нас был русский кофейный торт, который мы запивали остывшим больничным чаем. Фейгеле захмелела, но не от шампанского, а от перенапряжения — попробуй уследи за полной комнатой игроков. У нее стали подергиваться веки. Она обняла нас с Чиком. Хотела станцевать с нами на кровати какой-то дикий бронкский канкан, но тут открылась дверь и вошла женщина, примерно ее возраста, длинноносая и унылая, похожая на старую деву. Она тоже несла корзинку с едой, и с ней шли две девочки с длинными носами и унылыми глазами. Ломать голову, кто они такие, не приходилось. Марша Эйзенштадт, страх и ужас школы «Уильям Говард Тафт», и ее дочери Корделия и Аннабель Ли.
Чик перепугался, но быстро, как и положено хорошему дельцу, сориентировался в обстановке.
— Марша, — сказал он, — заходи, познакомься с моим компаньоном, миссис Палей-Чарин.
— Палей с Парк-авеню? — уточнила Марша.
— Нет. С Шеридан-авеню и из Белоруссии.
— А, та Палей-Чарин, которая крупье, а это ее неграмотный мальчик.
— Сейчас война, — ответила мать, собрав воедино все свои познания в английском. — Детские сады не работают. Пожалуйста, не оскорбляйте моего сына.
Марша вгляделась и поняла, что перед ней не очередная вертихвостка из Бронкса, с которой ее муж спутался на кривых дорожках черного рынка. Смуглая дама выбила ее из колеи. Марша забуксовала. Поняла: Фейгеле ее брань до лампочки.
Марша буркнула:
— Пащенки и приживалы!
А еще культурная называется. И вышла, сопровождаемая дочерьми (те даже не поцеловали папу).
— Фейгеле, — сказал Чик, — клянусь, это брак по расчету.
Мама собирала объедки нашей трапезы. Пустые чекушки свалила в обувную коробку, а оставшуюся икру убрала к Чику в тумбочку.
— А какие еще бывают браки?
— Брак с тобой, — ответил Чик.
— А жить мы станем в лесу — с Бемби и всеми спекулянтами.
Мы ушли, унося с собой обувную коробку, и больше в больнице не появлялись.
Его называли бронкской заразой. Почему — не знаю. Но когда я в разгар лета или весны видел мальчика в большой шляпе, я точно знал, что под этой шляпой скрывается. Стригущий лишай. На голове появлялись круглые блямбы, похожие на жерла вулканов. Только в этих вулканах внутри была кожа, а по краям — корочка в форме колец Сатурна. А сами кольца напоминали жутких, дохлых розовых червей. Полиомиелит делал тебя калекой, а лишай — вообще неприкасаемым. Пока на тебе большая шляпа и под ней бритая голова — в школу ни ногой. Будь добр отсиживаться дома, пока блямбы не сойдут.
Лишайных я жалел, но держался от них подальше. Берегся на будущее: в сентябре начинался учебный год, и мне светило место в первом классе. Мама по-прежнему обожала читать, но заниматься со мной вместо детсада ей было недосуг: то карты надо сдавать, то командовать Чиковыми верблюдами. Бремя моего образования легло на папу, а он толком не умел ни читать, ни писать. Так что не он меня учил читать, а я его. Так и вращалась наша планета Палей-Чариных в противофазе со всеми другими планетами.
Читать дальше