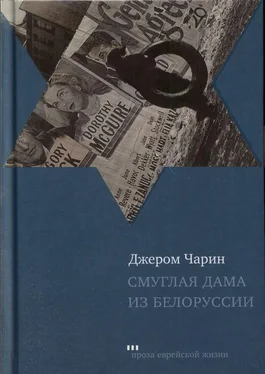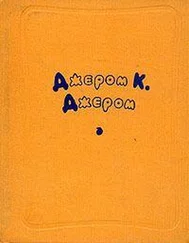— Но мне ничего не грозит, — говорила она, — пока я здесь, с тобой.
Он — задохлик, который того и гляди подхватит туберкулез, — плакал. В 1927-м она все-таки перебралась в Америку. Он обещал приехать к ней через полгода, но не приехал.
Она стала иммигранткой, жила на Манхэттене с отцом и мачехой, которая попрекала ее каждым куском. Поступила в вечернюю школу, устроилась на работу в модный магазин и все время думала о Мордехае. Из отцовского дома пришлось уйти. Тут-то она и повстречала Сэма, меховщика, — он, несмотря на Депрессию, без работы не сидел.
Фейгеле вышла за него, но ничто ее не вдохновляло — ни дети, ни Господь Бог, ни романы, — одни только письма, аккуратно приходящие из Могилева.
Доктор отхлебнул шнапса.
— Чики, женщина божественная, ты прав, только ты тут с какого боку? Ты не муж, не брат, не отец этого мальчугана.
— Не твое вонючее дело, — рявкнул захмелевший Чик. — Я в промежутках. Мне хватает.
— Хочешь вернуть ее к жизни, дружище, — возьми да состряпай это письмо… представь, что нужно обвести вокруг пальца царскую полицию.
— Это-то запросто. Только где взять русские марки?
Доктор потрепал меня по макушке.
— Малыш, где у мамы заначка с письмами?
Я привел их к деревянной шкатулочке, которую мама привезла из Белоруссии; там письма и хранились. Чика больше интересовали марки, да какая бумага, да почерк Мордехая, но доктор, кое-как наскребая из памяти обрывки русского (он родился в Киеве), принялся читать письма.
— Да он поэт, Чик.
Он хотел зачитать вслух, но Чик его оборвал.
— Лучше про себя, док.
— Ты что, псих? Поэзия принадлежит всем.
— Но письма-то принадлежат Фейгеле.
Марки все были разные. Коричневый белорусский орел; татарские князья и короли; Сталин, похожий на моржа, отец народа. Доктор достал из саквояжа ножницы. Хотел срезать некоторые марки, но Чик велел ножницы убрать. Он не мог никому позволить надругаться над маминой собственностью.
— Сдаюсь, — сказал доктор, и мы с Чиком пошли в магазин канцтоваров, где сообща выбрали голубой конверт и блокнот с «русской» бумагой.
Затем мы направились в «Суровые орлы», разыскали там одного человека и посулили масло, яйца и колумбийский кофе в обмен на русские марки из его семейного альбома.
Чик попробовал приладиться к манере письма Мордехая. Казалось, время вокруг него и будущего письма спеклось в густой ком. Доктор же позабросил жену, детей, любовниц, всех прочих пациентов, включая Меира Лански, и засел за сочинение могилевского письма, сварганенного в Бронксе. Я заваривал черный чай и кормил их кофейным тортом из «Суровых орлов».
На то, чтобы почерком Мордехая написать по-русски «Дорогая Фейгеле» и приступить к первому абзацу, у Чика ушел час. Надо было как-нибудь аккуратно обойти войну: Чик не хотел перегружать письмо всякими ужасами.
— Только вот приходится немного голодать, — вполне грамотно заключил он и подписался: «Мордехай».
Он надписал конверт, я наклеил марки, и мы заснули в гостиной каждый в своем кресле.
Сон мой прервал стук в дверь. Я встал, побрел, спотыкаясь, открывать. На пороге стоял почтмейстер в шлепанцах и с письмом в руке. Он был до крайности возбужден.
— Джентльмены, оно пришло, прямо как снег на голову свалилось!
Чик предложил ему нашего знаменитого кофейного торта с крошками горького шоколада.
— Вкусно, — похвалил он.
Никто не поблагодарил его за письмо — в мятом белом конверте, без единой марки. Почтмейстер ушел. Чик разорвал наше письмо, и мы пошли будить маму и вручать ей настоящее письмо из Могилева.
Она вынырнула из кровати прямо в ночной рубашке — ну чисто русалка (я русалок в глаза не видел, но, скорее всего, они выглядят именно так). Мама была полностью поглощена письмом, однако принялась за чтение не раньше чем заварила нам чай. Доктор был потрясен произошедшей с ней метаморфозой. Щеки Фейгеле вновь порозовели. Она скрылась в спальне и притворила дверь.
— Дивное создание… Тут и ангелы позавидуют, — сказал доктор.
Мы сиротливо ждали маминого возвращения. Зачитывать нам письмо Мордехая она не стала.
— Он по-прежнему учитель, — коротко пересказала она. — Но без школы. Бомбы упали.
Доктор вернулся к своей практике. Чик на время уехал из города по делам. Из Майами вернулся отец, сияющий киношным загаром, однако до Фейгеле ему было далеко — она вся светилась. Он вновь патрулировал улицы в своей каске. Я так и видел, как он во время затемнения ходит и высматривает предательские квадратики света. Бедный сержант Сэм, который так и не сумел покорить блистательную смуглую даму.
Читать дальше