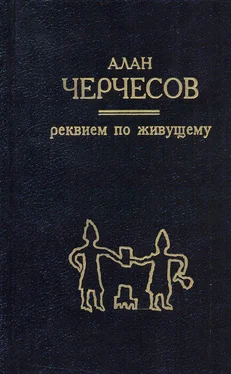И тогда я встану с колен, и тут только пойму, что простоял у его постели на коленях с самого прихода, и выйду за порог, и осторожно перемахну через низенький заборчик, и прокрадусь в дом к своим нарам, и еще успею прилечь, и еще успею заставить себя думать о том, что ночь уже кончилась, и еще успею глядеть на то, как расправляет плечи утро, и еще до того, как застучит кадушками жизнь на женской половине, успею сочинить картину: лань и олень на утесе, стоят на утесе рядом лань и олень, стоят так высоко, что любому видно: к ним не подобраться, и даже пулей не достать. Вот только так и не успею придумать сюда время: зима должна быть или осень, закат или рассвет?.. Зато успею запомнить ее, эту картину, на всю свою жизнь да еще тебе пересказать...
Так говорил отец.
И так я запомнил: олень и лань высоко на утесе, недостижимые ни для пуль, ни для времени...
Запомнил то, чего даже не было, чего даже и быть не могло, что родилось вместо дремы в растроганном воображении отца за девять лет до моего рождения и не поблекло до сей поры, словно позабыв о его, отца, смерти, позабыв обо всех смертях, кроме той, что убила девчонку, обманув ее проданной ланью, и примирила мукой любовь с одиночеством, позволив им жить на нашей земле две дюжины лет и страдать в горем подточенных стенах. И, стало быть, картина — кусок холста размером в две добрые заплаты на дрянной одежонке — вместить в себя сумела не только то, чего не было и быть не могло, не только то, что разрешило чужаку нацепить наши горы на низкую стену в чертовой лавке, не только обреченность влюбившейся в обман девчонки, ослепившей гибелью своей собственного отца и ею же заставившей потерять от любви голову того, кто первым из нас увидел на утесе лань, а после, прежде чем продать, показал ее, ожившую на шершавом холсте, той единственной глупышке, почти ребенку, которой сам же потом и помешал войти в легенду, не совладав с проклятой своей живучестью и надругавшись над неприступностью утеса, покорив его пьяным упрямством у нас на глазах,— картина вместила в себя еще и видение, перешедшее ко мне по наследству из времени, чей запах я даже не знал, но от которого так и не смог избавиться — от запаха то есть,— словно краски на ней, на картине (той, что даже не помнит холста, но с ланью рядом видит еще и оленя), оказались душистее и прочнее тех, что спустя год, ровно год после смерти девчонки, день в день, сгорели вместе с холстом и подрамником, вместе с утесом и ланью и купленной их красотой в мелкой лавке с низкими стенами, сгорели от ночью вспыхнувшего пожара, который, говорил отец, и пожаром-то назвать нельзя: чуть штукатурка обвалилась да осталось черное пятно под гвоздями, где она прежде висела, черные подпалины по низкой стене, вот и всё, пожалуй, не считая разбитого окна; только, сдается мне, горела она впустую, потому как ложь на ней вот уже год, как правдой сделалась или по крайней мере перестала быть ложью, и вот уже несколько месяцев, как Дорисовалась оленем в разыгравшемся воображении отца, выходит, и впрямь картина горела впустую: дело свое она уже сделала, так что пожар тот был лишь обрядом поминовения, и, говорил отец, когда он за два дня до поминок уехал из аула, я сразу догадался, что к ней, к картине, отправился, что хочет снова на нее взглянуть, вроде как дань отдать, а когда еще через четыре дня вернулся, моя догадка подтвердилась, разве что не полностью, ведь о пожаре в лавке я позже узнал. И поджигателя, конечно, не нашли, хотя кто-то из соседей успел во тьме разглядеть его спину, папаху и резвого жеребца, несущегося прочь по мостовой, а после — вон из крепости.
«Такое варварство!.. Ума не приложу,— повторял лавочник пару недель спустя, сокрушенно качая головой и глядя на отца растерянными глазами,— ума не приложу, кому оно могло понадобиться. Такая дикость!» — «Или боль,— подумал про себя отец.— Или месть — рукам своим, своему дару и своим ночам. Или сумасбродство ожидания, томившегося целый год в пьяном угаре воспоминаний. Или просто тоска по огню, запоздавшее жертвоприношение, уступка разум одолевшему наваждению...» А вслух сказал: «Может, и так. Может, и дикость. Да только ведь не всех грамоте учат. Кому-то нужно и хвосты быкам крутить». А тот перестал качать головой, напустил яду в глаза и спросил: «Уж не тем ли быкам, которых хотят на револьвер обменять? Что-то мало оно на вас похоже».— «Мало,— согласился отец.— Быки тут ни при чем. Можно и на что другое обменять. Так обменять, что даже и не расстаться». И стал смотреть на то, как силится лавочник усмехнуться. И наконец тот усмехнулся и сказал: «Во-на как. Оч-чень любопытно». — «Угу,— кивнул отец и подумал про мудрого старика, мечтавшего разбогатеть, и слово в слово припомнил его наказ.— На что другое можно обменять. Ну хоть на мою неграмотность». А тот сперва нахмурился, а потом долго глядел, и видно было, как постепенно, морщинка за морщинкой, до него доходит (и пусть по буквам и читать не научился, но по лицу его с минуту читал без запинки, говорил отец). А как дошло, он кашлянул и спросил на всякий случай: «Это как?» — «Бери бумагу и пиши. Пиши что хочешь, а после я крестик внизу поставлю».— «И какая мне с того креста польза?» — «Сам знаешь,— сказал отец.— Что угодно пиши, я тебе доверяю». И они опять помолчали, и поначалу взгляд лавочника таким тугим сделался, будто ему обидой зрачки стиснули, а потом обида медленно стала растворяться в хитрости, а как совсем растворилась, взгляд сделался влажным и мягким, словно древесная труха, и он сказал: «Ладно. Будь по-твоему»,— открыл ящик в столе и достал лист бумаги. Писал он быстро и вроде даже радостно, и на душе у отца чуток похолодело, но крестик он все ж таки поставил, добросовестно исполняя дедов наказ и старательно выводя пером обе палочки. Лавочник взял двумя пальцами справленную бумагу, вскинул перед собой, весело хохотнул и сказал, разорвав ее надвое: «Сейчас новую напишем. Настоящую». И отец, сглотнув слюну, спросил: «А эта что ж, ненастоящая была?» — «Конечно,— ответил тот.-— В этой ты признал, что должен мне сто рублей и вернешь к завтрему».— «Выходит, шутка»,— сказал отец и отер пот со лба. «Заодно и проверка»,— кивнул тот и принялся строчить по чистому листу. А отец переминался с ноги на ногу, все больше робел и знай себе отирал рукавом лоб, и на сей раз, прежде чем подписать, решил до правды доискаться и» когда тот протянул перо, замотал головой: «Прочти сперва». А лавочник удивился бровями, подумал немного и довольно осклабился: «Да ведь я могу не то прочитать, что написано. Как поймешь?» — «Ладно,— сказал отец и повторил: — Ладно. Доверяю тебе».— «Такая твоя доля. Или доверять, или грамоте идти учиться. Ставь крест»,— и ноготь приложил. «Только и тебе нет резону обманывать,— сказал отец.— У меня брат есть. И ружье теперь ему достанется».— «Ясное дело,— сказал тот.— Сходи кликни помощника...»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу