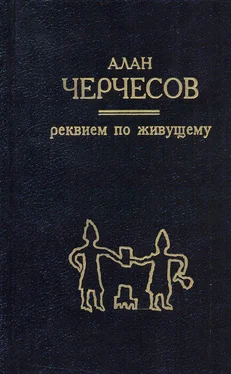Не знаете? Жалко. Вот и я сомневаюсь. Только завтра я в горы пойду, весь день не будет меня дома. Боюсь, как бы не пропало, а то хозяин вспомнит, хватится, а миски уж и нет. Хорошо бы сам забрал да к себе отнес. Вы передайте, а я денек еще, так и быть, перетерплю. Конечно, малость неспокойно на душе,— сказал.— Перед человеком неловко,— сказал.— Он ведь, может, без того, что в миске утерянной, и жить-то не умеет. Вы бы придумали что-нибудь, помогли бы,— сказал,— человеку. А не то придется самому все дела бросать да искать хозяина. Хлопотное это дело. Да и перепутать не мудрено, другому может достаться, потом неприятностей не оберешься,— сказал.— Мне сегодня ночью отчего-то кровь снилась,— сказал.— Никак только не вспомню, чья... Как бы не кого из вас,— сказал.— Вспомню — скажу. А снова приснится — так и вспоминать ни к чему. Лишь бы к завтрашнему вечеру наверняка знать,— сказал.— Хотя, конечно, оно и не обязательно, если хозяин прежде найдется. Верно? Ну ладно,— сказал и поднялся, но после опять присел.— А ежели интересно кому — пусть приходит, мне не жалко, пусть приходит и проверяет, пусть нюхает, может, свой запах признает. Ага... Пусть. А покамест отдыхайте,— сказал,— почтенные. Будем считать, что сговорились».
А потом встал и быстро к себе пошел, а на пороге, наши сверху видели, нос зажал да ловко переступил, исчез в дверях. И оставалось у наших достаточно времени, целые толстые сутки, чтобы молчать да обдумывать длиннющую речь его. И целые сутки на то, чтоб украдкой следить за его порогом.
Так они думали. Только немного маху дали и посреди ночи сбежались толпой на пожар: в низине у поворота горела грязная парусина, а под ней пылало несколько добрых охапок отборного сена. И, конечно, тогда они еще не поняли, зачем кому-то понадобилось жечь свое сено, ну а наутро миски там уже не было, а Одинокий объяснил: «Вот и хорошо,— сказал.— Вот и славно, что хозяин нашелся. Правда, стеснительный оказался. Из-за какой-то миски полстога сена спалил. Зря. Мог не спешить. Мог до утра хотя бы обождать. Чересчур стеснительный попался хозяин. Вот и сейчас молчит».
Но, конечно, молчали все, только кто-то один из них молчал куда основательнее. Так что, думаю, отец и впрямь наверняка не знал, чьих рук было дело, если только, понятно, сам в нем участия не принял. В общем, думаю, досада их взяла, что нашелся в ауле еще кто-то, у кого голова вполне сгодилась на то, чтобы провести их, всех вместе, пожертвовав при этом лишь горсткой сена да старой парусиной. Не так уж много ему потребовалось, чтоб их мозги перевесить.
Только кажется мне, что была там не одна лишь досада. Было еще и облегчение, и как-то с самого утра дышалось им легче, просторней. И теперь не нужно было вспоминать ничью длиннющую речь да размышлять о том, что за кровь кому снилась. Выходит, могли они вполне быть даже благодарны тому, кто струсил и из трусости исправил собственную глупость, отведя от всех беду. Но теперь души их были отравлены пуще прежнего, души их терзало сомнение, и быть потому стариками стало им куда как тяжело.
Понимаешь, говорил отец, трудно это — сомневаться, особенно когда почти вся жизнь — целая жизнь — твоя за плечами молчит, потому как подсказать тебе ничего толком не может... Ведь где это видано, чтобы досада с облегчением дружили, чтобы чужая трусость была мила всему аулу, чтобы прожитые годы так мало стоили и чтобы цену им назначали какой-то юнец да прохвост, того юнца испугавшийся? Где видано, чтобы так долго — невыносимо долго — никто из них ничего не понимал и даже не очень верил, что когда-нибудь ту загадку раскроет? Где видано, чтобы старикам не давала покоя какая-то бородатая палочка и чтобы украдкой друг от друга просили они того, кто ее сохранил: «Покажи-ка... Да, на стрелу смахивает... Но если ею мазал, дурак, значит! Зачем ему палкой по камням водить, когда их можно просто в краску окунуть?.. Ладно, убери...» А у самих (видно это) в глотке сохнет от волнения. А тот, стервец, ни за что не скажет, только лелеет у них на глазах подлое свое одиночество.
И хуже всего, что каждый знает: украсть не мог; а потому нельзя и обвинить, хоть очень хочется. И вовсе не странно это их знание, пусть все когда-то и видели, как крали коней, лучших в ущелье, старшие его крови, а сам он в тот же день крал коня у самих воров, а после, попавшись, все-таки уцелел и вернулся сюда, на эту землю, чтобы заставить ее жить по-своему.
Так что где-нибудь умыкнуть жеребца он не мог, он мог его только купить, а значит, должен был раздобыть где-то хорошие деньги. Только вот ничего из того, что продается, в крепость он не возил, а потому, решили наши, продал нечто такое, что в самом ауле не больше воздуха ценится, да еще столько денег выручил, что принудил всех сначала копать, потом грузить, потом везти, потом краснеть, потом достать ружья, потом бежать, но с рассветом отсылать обратно одного из тех, кто упрямей безумствовал, а потом ждать и все больше надеяться, а еще позже проглотить разом надежду заодно с позором, разгрузить повозки и трястись по дороге домой, чтобы ночью упиться, а следующим полднем глядеть в мутный теплый источник да на щетинистую палку, чувствуя тухлый дух смешавшихся запахов, ноздрями чуя в нем свою убогость и обреченность того, что почиталось за вечное, незыблемое, что было впору всем, словно пастушья бурка, но с какого-то давнего теперь уже утра с каждым днем становилось теснее, пока совсем мало не стало. И было это удивительно тем сильнее, что каждый из них и в своих-то глазах не рос, а словно бы вроде мельчал, подгрызаемый изнутри то завистью, то алчностью, то местью, то сомнением. Но поскольку мельчали все вместе, делалось будто не так обидно, как если б в отдельности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу