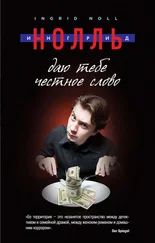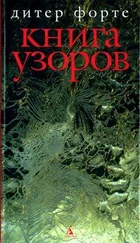Босков откинулся на спинку стула, его мучила сильная одышка. Нет, он не считал, что во всем потерпел неудачу. Он не станет выплескивать вместе с водой ребенка. Да, с этим Киппенбергом он как партийный секретарь действительно дал маху. Ланквицу с его высокомерием уступал, и все потому, что пасовал перед научным авторитетом профессора. А всякий раз, когда Киппенберг обманывал его надежды, у него возникало только чувство бессилия, которое передавалось всем окружающим и в котором он сам себе боялся признаться. Ждал, бился над мелочами, снова ждал, бездействовал и жил до самых последних дней в ожидании: не соблаговолит ли этот господин наконец… Потому что он был уверен: достичь чего-то можно только в союзе с другими. В союзе с таким, думал Босков, как Киппенберг. И действительно, без Киппенберга дело бы не пошло, вначале во всяком случае, но теперь существовала рабочая группа. Только сейчас он понял, какая это сила. Ведь они защищают интересы государства, и борьба идет всего лишь с отжившими представлениями, носителем которых является шеф, Кортнер и несколько их любимчиков. Не стоило Боскову так долго ждать Киппенберга. Он должен был постоянно направлять его. Кто знает, может, Киппенберг втайне на это надеялся. Вполне вероятно. Допустимо. Ведь противоречия в его поведении очевидны: еще вчера он лихорадочно разыскивает помещение под экспериментальный цех, а сегодня легко дает себя сбить с ног. Им нужно было вести Киппенберга, руководить им, как он их ведет и ими руководит, но Босков не сделал этого вовремя.
Однако он не стал сосредоточиваться на этих мыслях. Его уже занимало другое: что теперь делать? Потому что нужно было как-то действовать, хоть и обида еще не совсем прошла и разочарование трудно было так сразу в себе побороть. Однако у Боскова не было времени заниматься врачеванием собственных душевных ран. Завтра приезжает доктор Папст. Нужно либо звонить ему и давать отбой, либо бороться дальше. А чтобы бороться, необходимо прежде всего привести в чувство этого Киппенберга. Босков понимал: там, в лаборатории у шефа, чаша весов готова была склониться в любую сторону, и, если бы Киппенберг, как обычно бывало, решительно поддержал Боскова, они заставили бы Ланквица подписать бумагу. Достаточно было нескольких слов, но Киппенберг их не произнес. Он стоял молча, с таким выражением, словно собирается Кортнеру шею свернуть. Но рта этот чертов парень и не раскрыл, и слова, которые должны были быть сказаны, сказаны не были.
Как же это могло случиться?
И Боскову пришли на ум разного рода неувязки, противоречия, загадки, на которые он наталкивался последнее время. Но теперь уже поздно было над этим раздумывать, да психология тут вряд ли помогла бы. Они должны заставить Киппенберга завтра утром на рабочей группе все откровенно рассказать. Тогда уж ему придется занять чью-либо сторону, а Босков посмотрит, чем все кончится — несколькими свежими шрамами в душе или он будет вынужден навсегда лишить этого человека своего доверия.
Боскову позвонили с машины. Раздался дребезжащий голос Лемана: позарез нужен Киппенберг, но этого господина нигде нет! Кто-то выхватил у него из рук трубку: черт побери! Дальше-то что будет? Босков нажал на рычаг. Там внизу явно назревал дворцовый переворот. Он поспешил на машину, собрал всех членов партии, кого мог разыскать, в комнату Лемана и объяснил обстановку. Короче: так дело не пойдет, товарищи. Что ж, пусть все теперь катится в тартарары? И Босков предложил назначить на завтрашнее утро собрание рабочей группы, чтобы откровенно поговорить с Киппенбергом. Да, разговор должен быть совершенно откровенным, если хотите, жестким, но при этом я просил бы соблюдать дисциплину!
Босков хотел поговорить еще с Харрой, но на машине ему сказали, что Харры в институте нет и будет он только к полуночи. Кстати, про его заявление никто ничего не знал; Анни, видимо, все-таки пошел на пользу тот разговор в пятницу вечером, и кем-то брошенная тогда фраза «ее все равно не переделаешь», похоже, была несправедлива.
Босков поднимался по лестнице к себе. У дверей кабинета его кто-то поджидал.
Это была Шарлотта Киппенберг. Она задержит его только на секунду, она хочет прямо тут, в коридоре, сказать ему, что… Но Босков приглашает ее в кабинет, усаживает в кресло у журнального столика.
Да, эта женщина удивительно собой владела, но Босков умел видеть и скрытое: она пришла потому, что хотела сказать ему, что ей стыдно за своего отца и за мужа. Она не могла себе представить, что ее отец способен на такое… Она не должна была молчать. А главное, она не понимает и никогда не поймет, почему ее муж, а ведь дело было только за ним, своим авторитетом… Шарлотта поднялась.
Читать дальше