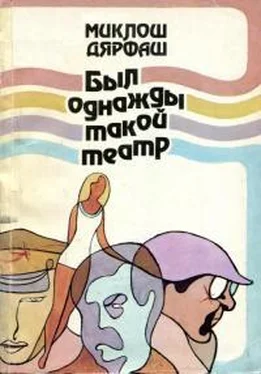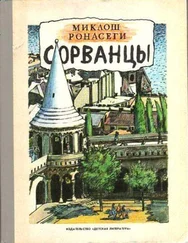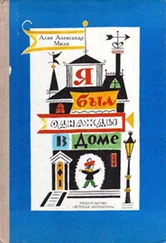Хермуш, не говоря ни слова, приступил к делу. Пошептавшись с женой, он взял сумку, оклеенную карточками всевозможных заграничных отелей, и удалился. Эти карточки дядюшка Али получал от швейцара Англо-Венгерского банка, которого неоднократно тайком проводил на спектакли.
Хермуш ухитрился запихать в этот саквояж кучу движимого имущества. Остальные «родители» тут же подключились к сборам. Госпожа Хермуш, напевая себе под нос любимые опереточные мелодии, села штопать Дюлины носки и чинить рубашки. Мужчины, занятые каждый своим делом, время от времени ей подтягивали. Комната была полна пара — господин Шулек стирал Дюлины вещички в жестяной кастрюле, стоявшей прямо на печке, и развешивал их на резной китайской ширме. Дядюшка Али орудовал утюгом, попутно рисуя Дюле картины его будущей жизни, внушая, что из него запросто может выйти великий актер, знаменитый на всю страну. А то ведь есть и такие, что протрубят всю жизнь в каком-нибудь захолустном театришке, а потом их и вовсе выкинут на свалку.
Сборы длились до самого утра. «Родители», сменяя друг друга, непрерывно разворачивали перед Дюлой панораму блестящего будущего, а если они почему-либо замолкали, тишину тут же прерывал скрипучий голос госпожи Хермуш. Под утро Дюла задремал на старом диванчике с бордовой бахромой. Его заботливо укрыли одеялом и продолжали заниматься приготовлениями.
Дюла проснулся около восьми и понял, что ему не остается ничего другого, как покориться. Он не смел сказать, что боится уезжать так далеко от матушки. Такой аргумент прозвучал бы смешно: ведь они больше шести лет не видели друг друга. А письма можно с тем же успехом посылать и из Пешта. Однако Дюла странным образом привык именно к этому расстоянию в тридцать километров. В Сегеде он мог представлять себе, будто просто утром ушел из Надьвашархея на работу. Ему казалось, что с каждым новым километром ниточка, связующая его с матушкой, становится все тоньше. Была еще одна причина… Но уж в этом-то он никак не мог сознаться приемным отцам. Он не сказал им даже о встрече с Аннушкой. То давнее, детское чувство не прошло до сих пор. Вспоминая последнюю встречу, он все больше укреплялся в мысли, что Аннушка действительно сжала его руку, словно не хотела выпускать. И не будь он таким рохлей, непременно сказал бы ей, что будет любить ее всю свою жизнь… «Ну да ладно, — утешал он себя, — может, оно и к лучшему. Вот стану в самом деле большим актером, тогда и приеду за ней и…» — И тут же пугался собственных мыслей: а что, если он не справится с учебой, если окажется, что никаких способностей у него нет и не было?
«Родители» не выносили чувствительных сцен. Господин Шулек сунул саквояж под мышку, после чего все трое отправились в театр, чтобы сообщить руководству о переменах в Коржиковой судьбе. Такач был в курсе дела, Тордаи как-то в разговоре упомянул, что хотел бы забрать юношу с собой. Дюла видел, что на него смотрят с завистью, первый актер труппы — и тот завидовал, хоть и похлопывал его снисходительно по плечу, желая всяческих успехов.
Одолжив у сына коменданта самодельные саночки, они поставили на них саквояж и отправились в гостиницу. Тордаи там не оказалось. Швейцар не мог сказать, вернется он или нет — во всяком случае, счета уже были оплачены, а чемоданы отправлены на вокзал. До поезда оставалась масса времени, «родители» не знали, что теперь делать и где искать Тордаи. В конце концов решили идти на вокзал и ждать его там.
К общему изумлению, Тордаи обнаружился в третьеразрядном вокзальном ресторанчике. Перед ним стоял стакан с ромом. Актер быстро писал что-то, склонившись над столиком, покрытым пестрой салфеткой, не обращая ни малейшего внимания на шум и грохот вокруг. Друзья почтительно остановились в сторонке. Тордаи продолжал писать, не замечая их. Тогда они вытолкнули вперед Дюлу. Юноша робко приблизился к столику.
— Доброе утро, мэтр.
Тордаи поднял голову.
— А, пришли! — сказал он. — Вот и хорошо. В одиннадцать пятьдесят будьте на перроне! Встретимся у вагона.
С этими словами он вновь углубился в рукопись и, казалось, напрочь забыл о своем протеже.
Ровно в одиннадцать пятьдесят он был на месте, поочередно пожал руки всем трем Дюлиным «отцам» и вошел вместе с Дюлой в купе II класса будапештского скорого. Поезд тронулся. Дюла стоял у окна и смотрел на топтавшуюся среди путей неразлучную троицу. «Отцы» махали ему вслед и казались удивительно беспомощными. Снег валил огромными хлопьями, чуть не с ладонь величиной. Рваные хлопья приходили в неистовство от малейшего дуновения ветра. Три маленькие фигурки постепенно таяли в этом бешеном танце.
Читать дальше