— Ты не понимаешь, о чем я, ведь так?
Она впивается ногтями в ладонь.
— Понимаю. Правда-правда. Но мы же собирались на берег, смотреть закат.
— Господи ты Боже мой, да я вырос у моря. И столько закатов перевидал, что мне на всю жизнь хватит. А я говорю с тобой об искусстве, вот о чем. И о чести. Я думал, ты, пусть смутно, представляешь, что это значит.
— Хватит издеваться надо мной. Ты все твердишь о твоем искусстве, твоей чести, ничего больше знать не хочешь.
— Ладно. — Он не спеша поднимается. — Давай поговорим о твоем искусстве, о твоей чести. Идет? Начинай. Ну же.
— По-твоему, мне нечего сказать. Потому что мне неведомо, что такое искусство. Неведомо, что такое честь, ты это имел в виду.
— Чушь. Тебе же двадцать пять. А ты все еще дитя.
— Раз так, зачем ты со мной?
— Что?
— Зачем ты со мной, раз я понятия не имею, что такое честь?
Он нервически откашливается.
— Послушай, Лиззи, у меня сейчас совсем другое на уме. Почему бы тебе не возвратиться в дом, а я вскоре присоединюсь к тебе.
— Что у тебя на уме? Что ты тут искал?
— Не желаю это обсуждать.
— Так вот зачем ты сюда приехал. Что-то — что бы это ни было — отыскать.
— Глупости.
— Я знаю, ты приехал вовсе не для того, чтобы повидаться со мной. Но я думала, ты приехал из-за него, хотел познакомиться с миссис Прокофф. А тебя привело сюда что-то еще?
— Сказал же я тебе, я ничего не сделал.
— Надо понимать, из-за своей чести. Не из-за меня, не потому, что она хорошо приняла тебя. А исключительно из-за своей чести.
— Сейчас ты меня и впрямь выведешь из себя.
— По-видимому, честь не имеет никакого касательства к реальным людям. Она такая же абстрактная, как живопись.
— А вот это уже не смешно. Я возвращаюсь в дом, а ты, когда будешь уходить, выключи свет. И закрой за собой дверь.
Пол идет к двери, и тут она его огорошивает:
— Ты искал картины Мэддена, верно?
Он оборачивается.
— Нина рассказывала, что ходят слухи, будто тут припрятаны его картины, но на самом деле их здесь нет. Так что можешь не беспокоиться за свою честь. Никаких картин тут нет.
— А вот и есть, — говорит он.
Они сверлят друг друга глазами.
— Я думала, ты не искал их.
— Искал, но ничего не взял. И никому о них не скажу. Вот что я имел в виду, когда говорил, что не могу это сделать. Но если ты подойдешь к комоду, где она хранит эскизы, и выдвинешь нижний ящик, там обнаружится целая пачка работ — масло на бумаге. Числом одиннадцать. Она это ловко придумала: схоронила их под своими рисунками, в самом низу самого последнего ящика. Когда до него доберешься, уже уверишься, что тут ничего нет. А они тут. И вот в чем вопрос: на кой ляд она хранит их здесь?
— Хочет время от времени на них посмотреть.
— Она тебе так сказала?
— Нет, просто я знаю, что это так.
— Она тебе про них ничего не говорила, нет?
— Нет. А вот кому ты собирался про них рассказать, если еще не рассказал?
Он отводит глаза.
— Одному знакомому.
— Кому же? Скажи.
— Одному человеку, который хочет их выставить. Поняла?
И тут ее пронзает мысль.
— Это что, той галеристке, к которой ты ходил позавчера?
Его разбирает смех. Он качает головой, прыскает: умиляется он, что ли, ей?
— Что тебя так позабавило?
— Ничего. Просто я забыл, до чего ж ты сметливая.
— Значит, ей.
— Ну да. А теперь отстань, слышишь?
— Я думала, ей нравятся твои картины.
— Нравятся, как не нравятся. — Он скрипит зубами. — Мои картины ей нравятся. Так нравятся, что, если я разузнаю, где хранятся ранние работы Мэддена и дам этой курве Саше список с датами и размерами, а то и вынесу пару-тройку— показать, мне обеспечено участие в выставке. Теперь врубилась? Теперь уяснила, до чего все это омерзительно?
— Прости, — говорит Лиззи: в первый раз — ей еще самой неясно, отчего и почему — вместо вымышленного ею человека перед ней он, такой, как есть, старше, чем ей представлялось, с изрезанным морщинами лбом, с загрубелой шеей.
Он утирает нос рукой, измазав лицо грязью.
— Я, пожалуй, уеду из Нью-Йорка. Подамся в глушь, в Колорадо или еще куда вроде этого. И буду писать, писать до умопомрачения, пока не окочурюсь.
— А как же мы? — спрашивает она. — Что станется с нами?
Он горестно смотрит на нее.
— Да будет тебе, Лиззи. Какие там мы. Тебе ли не знать, что никаких мы и быть не может.
— Я люблю тебя, — говорит она, хоть и знает, что не надо бы: не хочет он этого слышать. И всегда знала, что не надо, и оттого ее слова звучат не объяснением в любви, а мольбой о милосердии.
Читать дальше
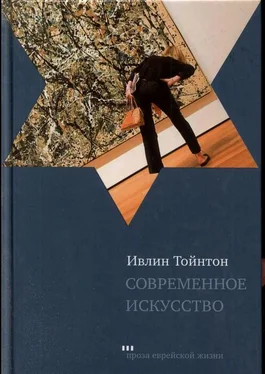



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







