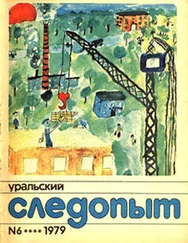Я знал серокуровскую историю от других лиц: совестно было бередить человеку раны расспросами, тем более что сам он упорно молчал. Да если бы и заговорил, сказал бы всю правду? И хотя в подпитии он становился разговорчив, пригорюнивался, или, напротив, был злобен и задирист и что-то доказывал больным, надтреснутым голосом — как мозаику из кусочков складывал, кусочков этих явно недоставало: то он начинал с середины, то отматывал с конца, — и картина выходила ущербной. Мазки, а не картина. Другие же лица были недобросовестны или пристрастны, и потому я не мог сказать себе: знаю достоверно . А еще из-за слов и поведения Серокурова мне иногда казалось, что и сам он достоверно не знает!
Жена оставила его тотчас после неизбежной огласки обстоятельств уголовного дела, и Серокуров вернулся из изолятора временного содержания в пустую квартиру. Понемногу занимался адвокатской практикой, потускнел, меньше стал пить, а по субботам, что называется, садился мне на хвост — ехал со мной на дачу. Говорил, что там, в недостроенной времянке с самодельной чугунной печкой, ореховым шифоньером хрущевской поры и допотопным пролежанным диваном, неистребимо отдающим нашатырным запахом кошачьей мочи, оставаясь наедине с собой, он наконец-то понимает смысл и назначение жизни человеческой: заставить всех нас, засранцев, утереться после себя…
— Бог знал, что все мы засранцы, и Адам с Евой — первые из первых, только стыдно Ему было признаться, что напортачил! Вот и послал змия с яблоком, чтобы отыскался повод — навсегда выкинуть такое добро, как человек разумный, из рая.
Всякий раз, когда Серокуров принимался за философию, истово раскачиваясь в кресле-качалке, так что его драные шлепанцы то взлетали перед моим носом, то проваливались в преисподнюю, я снисходительно думал, что вот, мол, как сказываются на когда-то умном и рассудительном человеке неблагоприятные жизненные обстоятельства. В такие минуты мне, признаться, нравилась собственная снисходительность — со стороны. Она как бы подразумевала: ты, Серокуров, умный, да вот попался, а я нет, потому что тебя умней!
И вот теперь, когда бывший следователь молчит и думает о своем, я вдруг ловлю себя на мысли, что и мне уже есть о чем размышлять, что, вероятно, и у меня постепенно проявляется на лице печать глубоко озабоченного человека…
«А ведь на него, на Серокурова, тоже было заведено оперативно-розыскное дело, только не моими , не спецподразделением, а управлением уголовного розыска! Пасли его, выслеживали, как волки овцу, в сортир следом ходили», — приходит мне в голову внезапная мысль.
Мысль и радостная, и отвратная. Радостная потому, что чаша сия до теперешнего дня меня миновала. Отвратная — из-за подлого слова «тоже». Промелькнув в сознании, своей двусмысленностью оно занозит мне область, называемую подвздошной, — и я ощущаю эту занозу всем своим естеством. А еще невольно представляю себе микрофоны в укромных уголках квартиры и кабинета, под сиденьем автомобиля, принимаюсь высматривать «наружку» в зеркале заднего вида и даже подозрительно кошусь на Серокурова: а этот чего здесь?..
Собственно, так рано или поздно можно сойти с ума: клиническая мания преследования, фобии, беспричинная подозрительность, страх…
— Эй, что ты припустил по ямам? — слышу я голос Серокурова — гулкий и далекий, точно из морской раковины.
И в самом деле, на дороге выбоин, будто на коже после запущенной оспы, а я все ускоряюсь со своим «мерседесом»: нога запала на педаль газа и занемела, как заговоренная каким-нибудь Кашпировским. Трудно, усилием воли, я сбрасываю газ и начинаю врать, на ходу придумываю какую-нибудь хохму из прокурорской жизни специально для Серокурова, тем временем налаживая сердцебиение, впрягая неровный, аритмичный стук в ритм обыденного выходного дня.
— Так вот, этот самый Саранчук десяток раз поднимал перед обедом гирю, а гиря — я тебе скажу!.. С ним, с этим Саранчуком, многие боялись поздороваться за руку, прятали ладонь за спину: очень болезненное было рукопожатие! К слову, мы с ним работали тогда в районе: я прокурором, а он у меня помощником. И вот после поднятия гири он по пояс обмывался во дворе под краном — и к себе в кабинет… А я, бывало, как задержусь на работе, так и слышу: в начале второго часа, в самый обеденный перерыв, женские каблучки — стук-стук, замок изнутри — щелк-перещелк, и тут уж у него включается на полную радио — обеденный концерт по заявкам…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу