Спустя некоторое время Эфраим-отец и Эфраим-сын перестали приезжать в деревню. Ходил слух, что в одну из поездок они подобрали по дороге девушку, и каждый взял свое — отец и сын. Когда это стало известно, то, как рассказывают, парни из той деревни, где жила девушка, подстерегли их и основательно избили. Потом сломали всю аппаратуру и порвали пленки, как будто виновато было кино. Так или иначе, в нашей деревне купили после этого проектор в складчину. Кино показывали регулярно, каждый вторник, но праздника уже не было.
III
На летние каникулы я ездил в Тель-Авив к дяде. В маленькой типографии возле автобусной станции я проводил дни вместе с ним между наборной кассой и печатным станком, которые были намного старше меня. Тети и двоюродного брата я не знал, потому что, когда мне еще не было года, они уехали — из города и из страны. Я был совсем мальчишкой, но дядя часто, со всеми подробностями и всегда недоумевая, рассказывал мне, как тетя, его жена, плакала и просила, чтобы он отпустил ее. Среди фотографий в доме на улице Гальперина, где я живу сейчас, есть один снимок. Миловидная женщина, лицо без тени улыбки, взгляд, устремленный куда-то в сторону.
— Тетя твоя курва, — сказал мне как-то Франческо, самый старший из трех рабочих, смазывая черной типографской краской барабаны печатного станка.
— Полегче, — откликнулся со смехом Пинхас, который был помоложе, — хозяин услышит.
— Ну, и пусть слышит! — огрызнулся Франческо. — Чего это вдруг он отпустил ее с английским пилотом?! Что такое?! Что, мы, евреи, хуже этих сук-англичан?..
Дядю, как потом и меня, рабочие не любили, не знаю за что.
Дома я рассказал дяде о том, что услышал от Франческо. Но дядя только улыбнулся, и глаза его подернулись дымкой. Он был вообще немногословен, и речь его напоминала стиль американских киногероев в титрах на иврите.
— Я думаю, — сказал дядя, — Франческо был немножко влюблен в нее. Ты бы видел, как она приходила на предприятие.
Предприятием дядя называл свою захудалую типографию — одна наборная касса да печатный станок.
— Она совсем не была… такой, как он говорит. Что я мог сделать? Ведь она по-настоящему любила его.
— А ребенок? — спрашивал меня Франческо, скрипя зубами от злости и не спуская глаз с трезубца, подхватывающего листы бумаги. — Где это слыхано, чтобы еврейского ребенка отпускали в Англию? Еврейского ребенка?!
— Ребенок, — рассказывал дядя в тот же вечер, когда мы собирались в кино и он домывал посуду, — ребенок был ее, не мой. Что я мог поделать?
Осторожно, чтобы капли не падали на пол, он вытер руки о передник, служивший в прошлом его жене.
— Я знаю, она вернется, вместе с ребенком. Я жду, — продолжал он со всезнающей улыбкой, — этот Кинсли, стало быть, женат, и все выглядело иначе, когда она приехала к нему в Англию. Шеффилд, кажется, для нее это было страшным ударом.
Дядя снял передник и присел к столу.
— Дело в том, что она полюбила его всем сердцем. Он предложил, понимаешь, снять там квартиру — ей и ребенку, и помогать деньгами. Но она не такая. Стало быть… Я-то знаю, она слишком гордая. И она, конечно, ушла от него и стала работать официанткой в ресторане. Она вернется. Я знаю. Как только поймет, что гордость, стало быть, ни к чему. Ребенок не дает ей покоя. Не было от него житья и этому Артуру Кинсли. Любил меня как родного отца.
Дядя умолк на минуту, а потом добавил:
— Но им ничего не говори. Это секрет, между нами!
Жена его уехала одиннадцать лет назад. За все эти годы она не написала ему ни одного письма. Мне было двенадцать лет, но я был уже хранителем его сокровенных тайн.
Кино дядя любил больше всего на свете. В три часа Франческо занимал его место у письменного стола при входе, а мы с дядей отправлялись на дневной сеанс. После кино, еще под впечатлением увиденного, мы возвращались четырех- или пятичасовым автобусом на автостанцию и запирали типографию. Далее, как по-заведенному, ехали домой на улицу Гальперина, разогревали обед, ели, мылись и некоторое время изучали дядины журналы по кино. Мы выходили всегда в один и тот же час, чтобы поспеть на второй сеанс, где ждали нас чудеса, а потом ошеломленные возвращались домой и сразу ложились спать.
Я помню, как дядя смотрел на экран — на лице блики, глаза и рот по-детски широко открыты. Вид отрешенный, как у святого. В кино всегда сидел молча, погрузившись в свой собственный мир. Высокий, прямой, весь застывший. Дядя не любил, когда я задавал ему вопросы по ходу фильма, и я не спрашивал его ни о чем. Но и потом он старался поменьше говорить об увиденном. О кино вообще говорить не любил. Он делил со мной все остальные секреты, но эта тайна была самой заветной. Когда я все же вовлекал его в разговор о кино, бледное аскетическое лицо дяди краснело, слова путались. Отвечал он односложно и неохотно.
Читать дальше
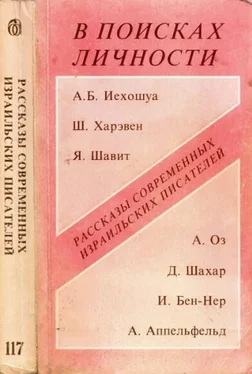
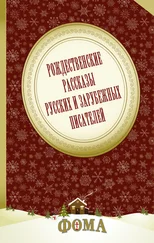
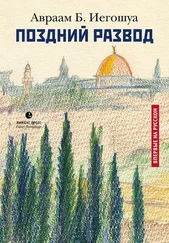





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


